
Миллионы людей в мире каждый год переезжают с места на место в поисках лучшей жизни или в бегстве от жизни совсем плохой. Каждый отправляется в путь по своим собственным резонам — и становится частицей одного из миграционных потоков, беспрерывно прокатывающихся по планете. В движении этих потоков можно выделить и некие закономерности: они меняют направление, состав, смешивают языки и народы, способствуют подъему экономики или, напротив, ее спаду, когда огромные территории становятся пустыми. Антропологи, историки и демографы могут многое рассказать об этом движении по планете с древнейших времен до наших дней.
Демографы часто отличаются необыкновенным сочетанием остроумия и склонности к возвышенно-обобщающему мышлению.
Время от времени они ловко утирают нос журналистам, изобретая точные и образные метафоры для наименования новых демографических процессов. «Западный дрейф» — одна из них.
Речь идет о серьезном повороте в российской истории — именно российской, а не только советской и постсоветской. Со времен основания Российской империи, постоянно расширявшей свою территорию то завоеваниями, то договорами, то «по просьбам трудящихся», потоки переселенцев сотнями лет двигались в основном из центра страны на ее окраины обживать новообретенные малонаселенные земли на юге и востоке. В 70-е годы прошлого века впервые эти потоки развернулись в противоположную сторону. Точнее, миграция всегда шла одновременно во всех направлениях, но соотношение потоков резко изменилось: миграция внутри страны из центробежной становилась центростремительной.
В демографии обычно принято выделять «европейскую принимающую зону»: Москва с областью и прилегающими к ним областями, северная столица с областью, Приволжский округ, некоторые южные регионы. За 13 лет — с 1991 по 2003 год — эта зона приняла, по официальным данным, 1 миллион 879 тысяч человек. Сюда с европейского севера страны и с юга, из республик Северного Кавказа, приехали по 20% мигрантов, но большинство переселенцев — бывшие жители востока России, и так довольно мало населенного. Европейский север нашей страны при этом потерял каждого десятого своего жителя. Причем произошло это только за счет внутрироссийской миграции, не считая уехавших в другие страны. На Дальнем Востоке пустеют Якутия, Магаданская область, Чукотка, Сахалин, Камчатка. «Перевалочной зоной» для дальнейшего движения на запад стали Урал и Западная Сибирь — они постоянно отдают людей в «принимающую зону», но совсем недавно сами еще больше принимали приезжих с востока. К «перевалочной зоне» также относят и кольцо областей вокруг Москвы, которое наряду с приемом также постоянно отдает население в центр.
Обычно южные области с мягким климатом и урожайными землями весьма соблазнительны для переселенцев (разумеется, если в них не слишком напряженная и опасная обстановка). К сожалению, южные регионы Дальнего Востока, стратегически очень важные из-за своей близости к Китаю, никакой притягательностью для мигрантов-соотечественников не обладают. Эти области даже не в состоянии на время затормозить опустение всего региона в целом. Частично, как полагают многие демографы, в этом повинна инфраструктура Дальнего Востока, производная от жестко централизованной организации всей жизни при советской власти. Транспортные сети были ориентированы на вертикальные связи с далеким административным центром в гораздо большей степени, чем с близкими соседями. Особенно сильно это до сих пор ощущается на окраинах страны. В этом же и причина тотальной сконцентрированности миграционных потоков на столичном регионе. Это тоже побочное следствие централизации и экономической, административной и культурной жизни.
Фактически Сибирь и Дальний Восток все больше превращаются в пустующие пространства с вкраплениями «обжитых островов». И это — упрек в адрес практически полного отсутствия миграционной политики государства. Впрочем, и прежняя политика, достаточно активная, не привела к плотному заселению окраинных территорий. Десятками лет она сводилась или к насильственному перемещению больших масс людей, или к тактике «длинного рубля». В результате жители чувствовали себя временными поселенцами и мечтали в конце концов вернуться «на материк».
Куда ведут дороги?
Один из мифов, прочно осевших в общественном сознании, связывает начало опустения севера и востока страны с реформами 90-х годов. На самом деле разворот произошел намного раньше. Это был признак того, что экстенсивное хозяйствование практически себя исчерпало. Однако руководству страны еще долгое время не хватало ни понимания ситуации, ни политической воли, чтобы пойти на серьезные преобразования. Именно поэтому впоследствии они оказались особенно болезненными.
Сразу после начала реформ 90-х внутренняя миграция в стране на короткое время приостановилась. Все будто замерло в ожидании: что дальше? Было даже попятное движение из городов в села, к земле, где «огород прокормит». Но оно так и не набрало силы: страхи поутихли, уровень безработицы оказался много ниже ожидаемого, и даже ниже, чем во всех братских странах, тоже переходивших от социализма к капитализму. И народ снова двинулся в путь в прежнем направлении: из деревень — в города, из поселков и малых городов — в крупные, от окраин — к центру, то есть на запад страны.
В последние годы темпы внутрироссийской миграции начали падать: если в 1990-е годы европейская принимающая зона вбирала в себя по 160 тысяч мигрантов ежегодно, то теперь — по 100 тысяч и меньше. «Перевалочные» Урал и Западная Сибирь еще продолжают отдавать людей, но этот процесс уже не компенсируется притоком с востока и севера. Но как бы ни хотелось объяснить это постепенным движением к выравниванию условий жизни в разных регионах страны, гораздо резоннее допустить, что при первом же легком оживлении совсем было безнадежных производств люди просто вернулись к прежнему образу жизни, не требуя от нее слишком многого. Эта привычная пассивность россиян, их готовность довольствоваться малым при минимальных усилиях — известная черта «национального характера».
Главные эпизоды миграции
Современный человек генетически и физически сложился примерно 150—200 тысяч лет назад на небольшом пятачке в Восточной или Центральной Африке. В одной из популяций антропологи благодаря генетическому анализу зафиксировали настоящий демографический взрыв. Как и в наше время, он выталкивал людей из родных мест, и около 100 тысяч лет назад люди стали волна за волной отправляться на поиски новых мест обитания. Один из наиболее вероятных маршрутов пролегал из Эфиопии через Красное море, затем на южное побережье Азии. Судя по всему, лишь несколько сотен человек добрались до новых территорий, но они стали быстро расселяться, и их генетические следы ученые с легкостью обнаруживают в современном азиатском населении. Пожалуй, самый знаменитый в истории человечества миграционный поток — исход евреев из Египта. Но сначала, около 1 700 года до н. э., они пришли туда из Ханаана. Тогда в Египте царствовало племя гискосов — «пастухов». Но вскоре египтяне их прогнали и, как водится, разгневались на всех чужаков, прежде всего евреев, которые вдобавок тоже были пастухами. Их обратили в рабство. Лет через триста (между 1320 и 1250 годами до н. э.) чаша терпения евреев переполнилась, и они двинулись вон из Египта. Мигранты завоевали южную Палестину, где и создали государство Израиль.
Не менее знаменито вошедшее во все учебники «Великое переселение народов» — так в науке называют совокупность перемещений народов по Европе в IV—VII веках, в основном с окраин Римской империи на ее основную территорию. Все началось в 375 году с приходом гуннов («всадников»), уничтоживших государство остготов; вскоре франки заняли земли современной Голландии, тогда принадлежавшие Риму. Их потеснили вандалы, алеманны, аланы и т. д. Высшая цель любого захватчика — Рим — впервые покоряется королю вестготов Алариху в 410 году, но победители толком не знают, что делать с таким «призом», и просто грабят Великий город. Тем временем у империи «откусывают» окраинные земли со всех сторон: Британия отходит англам, саксам и ютам, Дакия (современная Румыния) становится проходным двором для гуннов, гепидов, аваров, славян, болгар, венгров, печенегов, куманов — пятьсот лет они шествуют через эту бывшую римскую провинцию и расселяются по Европе. 508-й год становится последним в существовании Западной Римской империи: король Хлодвиг провозглашает столицей нового Франкского государства Париж. Тем временем чехи занимают свою нынешнюю территорию, вытесняя баваров в Баварию. Англосаксы сменяют в Британии бриттов, которые массово эмигрируют на территорию нынешней Бретани. В пятисотые годы славянские племена занимают дунайские земли Восточной Римской империи.
Миграции эпохи колониализма
Чем теснее становилось в Европе, тем чаще европейцы поглядывали по сторонам. Великие географические открытия положили начало колониальным захватам начала XV — середины XVII века. Колонии могли погубить метрополию — так, Испания и Португалия не выдержали испытания дешевым золотом, но и не могли стать источником мощного рывка в экономическом развитии. Для Англии же колонии были прежде всего рынками сбыта, и она завалила Индию дешевыми ситцами, загубив при этом индийскую текстильную промышленность. Это уже был прообраз современного мира, лицо которого определяют не столько воины, сколько торговцы.
Помимо ограбления колонизаторы принесли в новые земли свою политическую, организационную, техническую и гуманитарную культуру. Они учили и лечили своих новых подданных и часто защищали от самих себя, твердо прекращая внутренние междоусобицы. Если наложить карту колоний на карту современных миграционных потоков, то видны поразительные совпадения: многие бывшие колонии до сих пор остаются в зоне экономического, политического и культурного влияния метрополий. Франция стонет от наплыва арабов, но он начинался с ее бывших подданных, хотя сегодня явно не Франция самая богатая страна на свете, и они могли бы найти больше гостеприимства в традиционно иммигрантских странах.
Под влиянием миграционных потоков кардинальным образом изменилось население целых континентов. Подавляющая часть населения Америки — потомки выходцев из Европы и африканских негров, которых доставляли в новые колонии ввиду острой нехватки рабочей силы для освоения новых даром обретенных земель. Коренное население в Северной Америке сократилось до скромного национального меньшинства, а в Центральной и Южной, смешавшись с прибывшими колонистами, породило интереснейшую метисную культуру. Но приток иммигрантов в Америку не прекратился и тогда, когда там сложились вполне устойчивые государства. «Страна неограниченных возможностей» постоянно притягивала к себе тех жителей Старого Света, которые чувствовали ограниченность возможностей на родине. Есть в этом миграционном потоке и довольно заметный вклад России.
Эмиграция из России
Принятое деление российской эмиграции на волны, конечно, несколько условно. Потоки, то ослабевая, то усиливаясь, не иссякали почти никогда. Так что, по существу, речь идет лишь о пиках эмиграции. Самая первая, точнее «нулевая», волна выезда еще из Российской империи на три четверти осела в США. Но отправлялась она в основном не из России в ее нынешних границах, а из других частей бывшей империи — Украины, Белоруссии, балтийских губерний. Три потока эмиграции из СССР были обусловлены преимущественно политическими причинами. Первая и вторая волны — это в основном потоки вынужденной миграции, связанные с последствиями войн и революций, третий поток — добровольная, преимущественно «этническая», эмиграция времен «холодной войны».
Последняя из них была связана с падением «железного занавеса». Многие российские и зарубежные специалисты ожидали тогда резкого всплеска эмиграции — от 2 до 20 миллионов человек. На самом деле все 90-е годы она держалась на уровне около 100 тысяч человек в год. Интересно отметить, что в четвертой волне Германия резко потеснила США в роли принимающей страны. Первоначально эта волна носила этнические черты — выезжали преимущественно немцы (более 50%) и евреи (13—15%). Но к 2000 году русских среди эмигрантов было уже свыше 40%, и поток стал больше похож на типичную экономическую эмиграцию из других стран.
Сорель на рынке труда
Подавляющее большинство современных мигрантов отправляются в путь по экономическим мотивам. Прежде было не так. Заведующая лабораторией миграции населения Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Жанна Зайнчковская считает, что среди советских мигрантов (тех, кто переезжал по собственной воле) «экономическими» были не более трети. Еще треть переезжала «за образованием». Остальные передвижения по стране были связаны со службой в армии.
Герой Стендаля Жюльен Сорель, прибывший покорять Париж из глухой провинции, был как будто создан для победы: молод, честолюбив, образован, энергичен, готов работать много и хорошо. Доля таких «сорелей» в общем потоке мигрантов, конечно, не слишком велика, но в отечественных потоках их заметно больше, чем в типичных миграциях в мире. На переселение решаются не те, кому «хуже всех», а те, у кого уже есть хотя бы небольшой первоначальный капитал, пусть даже не денежный, а, например, образовательный — востребованная профессия, знание языков, умение работать на компьютере. Но большинство в общем потоке мигрантов, конечно, не «сорели», а преемники советских «лимитчиков», которые не слишком отличались от нынешних иммигрантов из стран СНГ. Они так же занимают непрестижные рабочие места, их так же обманывают и эксплуатируют все, от работодателей до милиционеров, вымогающих взятки за давно запрещенную законом прописку, которую теперь называют регистрацией.
Своего рода «сорелей» много и среди иммигрантов, приехавших из стран СНГ, но они, как правило, старше 30 лет и уже вышли из студенческого возраста. У многих из них уже есть высшее образование и семья, которую надо кормить. С работы их «попросили», чтобы «укрепить национальную интеллигенцию», или они получали там гроши без всякой надежды на продвижение. На их месте мог бы оказаться каждый, чьего деда в свое время послали строить социализм в братских республиках.
Демографы и статистики, кажется, готовы признаваться в любви этим людям. По словам руководителя Федеральной службы государственной статистики Владимира Соколина, «в 2000 году в ходе пробной переписи населения в Москве выяснилось, что большинство торгующих на рынках мигрантов находятся в трудоспособном возрасте и имеют одно или два высших образования, однако в силу тех или иных обстоятельств лишены возможности работать на родине». Обратите внимание: они лишены возможности работать по специальности и в России. А ведь среди них много врачей и учителей, которых так не хватает даже в Москве, но они торгуют на рынках… Правда, как и их литературный прототип, эти мигранты довольно агрессивно завоевывают себе место на рынке высокопрофессионального труда, как только им предоставляется для этого малейшая возможность.
«О таком качественном миграционном потоке нельзя даже и мечтать в нормальной ситуации», — подтверждает Жанна Зайнчковская. «В нормальной ситуации» — это, как в других странах, например в открытой для мигрантов Америке. Мы все наслышаны об утечке наших российских умов за рубеж. Это наводит на мысль, что миграционный поток, направленный в западные страны, — самый качественный. Однако американские экономисты подсчитали, что приток иммигрантов на их рынок труда увеличил предложение квалифицированной рабочей силы всего на 4%. В основном американские иммигранты претендуют на труд неквалифицированный или малоквалифицированный.
«Русский крест»
Вопросы миграции нельзя рассматривать в отрыве от общей демографической ситуации в стране. Ведь миграционные потоки определяются состоянием жизни в тех регионах, откуда и куда они текут. Эта жизнь главным образом определяется постоянным местным населением, но вот как раз с ним ситуацию в России благополучной не назовешь.
«Русский крест» — это еще одна метафора, изобретенная нашими демографами. Ее сопровождает впечатляющий график: в начале 90-х годов кривая рождаемости рухнула вниз, ее перечеркивает кривая смертности, тогда же взмывшая до небес (см. рис.).
Рождаемость
На самом деле рождаемость начала падать вовсе не с началом реформ. Сначала — в годы первых пятилеток, в период индустриализации. А потом, снизившись во время войны, рождаемость так и не вернулась на прежний уровень. Очередное снижение произошло в 60-е годы: если в 1960 году в России родилось 2,8 миллиона детей, то в 1968-м — лишь 1,8 миллиона. Эхо войны, дети малочисленного военного поколения? Российский демограф Виктор Переведенцев утверждает, что на это можно списать не более 40% потери рождаемости; остальное — результат превращения аграрной страны в индустриальную, преимущественно сельской — в преимущественно городскую. Последняя ступенька вниз пришлась на 1987—1993 годы, когда рождаемость упала с 2,1 до 1,3 ребенка на женщину. Переход к сокращению населения страны был неизбежен. Но то, что он начался с 1992 года, дало повод обвинить во всем политиков-реформаторов. Однако подобное сокращение происходило в свое время во всех развитых европейских странах и продолжает происходить там, где, как и мы, проходят через этап «догоняющей» модернизации. Связывать сегодня выход из демографического кризиса с подъемом рождаемости — все равно, что рассчитывать на возврат страны к ее аграрному прошлому. Да, с нашей сегодняшней рождаемостью не обеспечивается даже прямое воспроизводство населения. Но то же самое можно сказать и о таких странах, как Германия и Япония (1,3) или Канада (1,4). А мы мечтаем о другом, пытаемся добиться деньгами и льготами, чтобы рождаемость стала… как где? Вот перечень таких стран от А до Я: Аргентина (2,5), Бахрейн (2,6), Бруней (2,3), Вьетнам (2,3), Гайяна (2,4), Индонезия (2,6), Иран (2,5), Киргизия (2,4), Ливан (2,4), Таджикистан (2,4), Турция (2,5), Узбекистан (2,5), Чили (2,4), Ямайка (2,4). Хочется еще больше? (Мы же привыкли всего добиваться числом.) Как насчет Нигерии — 5,8 ребенка на одну женщину? Наш ведущий демограф Анатолий Вишневский говорит в таких случаях: есть на кого равняться.
Смертность
Однако российское население сокращается быстрее, чем в любой другой западноевропейской стране. Беда в том, что рождаемость у нас, как в богатых и развитых странах, а смертность — как в тропических странах Африки, пораженных ВИЧ-инфекцией. «Российский крест» — это кресты на могилах. Наша структура смертности ни на что не похожа. Заболеваемость раком в возрасте от 20 до 60 лет у россиян в 1,5—2 раза выше, чем на Западе. От болезней системы кровообращения в России в конце ХХ века умирало на 18% больше, но что существенно, в возрасте 20—50 лет смертность от них в 3—4 раза выше, чем в развитых странах. Главное отличие от цивилизованного мира — непомерно высокая доля смертей от «внешних причин»: травм, несчастных случаев, убийств (и уголовных, и военных). Смерть такого рода, естественно, косит прежде всего мужчин трудоспособного возраста. Положение еще и усугубляется: в 1980 году у российских мужчин вероятность умереть от внешних причин была на 50% выше, чем в 1965 году, а в 2000-м — на 22% выше, чем в 1980-м. Лишь несколько лет горбачевской антиалкогольной кампании составили очень красноречивое исключение. Кстати, резкий взлет смертности в начале 90-х, как считают демографы, тоже стал результатом антиалкогольной кампании, точнее — ее внезапного прекращения: отсроченные смерти тех, кто, недопив, прожил дольше, резко увеличили обычные показатели смертности. Если считать, как принято, по условным поколениям, выходит «геноцид российского народа», совпавший с началом реформ; если же сосчитать продолжительность жизни реального поколения «пьющих» в конце восьмидесятых годов, так она в среднем под влиянием антиалкогольной кампании увеличилась на 6 лет. Общий рост смертности в России продолжается. Депопуляция
Профессионалы утверждают, что принципиально демографическая ситуация не изменится, даже если бы удалось существенно снизить уровень смертности. Тем более ничего не изменят бесплодные попытки увеличить рождаемость: тут, как показывает мировой опыт, успехи могут быть только временными и недолговечными. Недавно российские демографы Центра демографии и экологии человека впервые составили долгосрочный — до 2100 года — прогноз численности населения России. Если миграционная политика останется неизменной и поток мигрантов будет медленно сокращаться, то в 2050 году число жителей России с вероятностью 50% будет ниже ста миллионов, а в 2100-м — ниже 70 миллионов человек. Но даже самые оптимистичные прогнозы, с учетом активной миграционной политики, по словам Анатолия Вишневского, «не позволяют надеяться на перелом обстановки». В лучшем случае население удастся стабилизировать примерно на нынешнем уровне.
Столь долгосрочные предсказания могут вызывать естественное недоверие. Однако на самом деле прогнозирование в области демографии намного надежнее, чем в метеорологии или в экономике. Дело в том, что демографические процессы происходят очень медленно. Это подтверждается, например, тем, что демографические прогнозы ООН, сделанные еще в 1960—1970-е годы, до сих пор сбываются с хорошей точностью. Мы пока еще не осознали масштабы демографического бедствия, поскольку вплоть до самого последнего времени, несмотря на некоторые колебания, число людей в трудоспособном возрасте росло — шутки медленной перестройки всей половозрастной пирамиды населения. Число потенциальных матерей — женщин, способных рожать,— тоже будет стремительно уменьшаться: к 2050 году оно может упасть вдвое, а к 2100 — втрое. Серьезные демографы знают только один эффективный способ решения демографических проблем: массовый прием иммигрантов. Как заметила Жанна Зайнчковская, выбор стоит сегодня не между «пускать» мигрантов в Россию или «не пускать», а между «пускать» или «жить плохо».
Родные нелегалы
В Россию преимущественно мигрировали люди одного с нами языка, одной культуры (по крайней мере, пока). Среди них много русских. С 1990 по 2005 год в Россию из стран СНГ и Балтии въехало более 8,5 миллиона человек, из которых 65% составляли этнические русские. Но главное даже не в этнической принадлежности мигрантов, а в том, что все они — татары, украинцы, армяне, азербайджанцы — так называемые «русскоязычные», как и все россияне старше 30, учились в советской школе по одним и тем же учебникам, читали те же книги, смотрели те же фильмы и телевизионные передачи. Действительно, мало какой стране мира так повезло с иммигрантами.
«Но, к нашему стыду и сожалению, — говорит Зайнчковская, — мы постоянно создавали для этих мигрантов искусственные трудности: ограничивали регистрацию в городах, посылали их в село, создали проблемы с получением гражданства». Первоначальная демократичность и открытость новой России обернулись приглашением вернуться, обращенным к миллионам советских граждан, неожиданно оказавшимся за границей сразу после распада СССР. Многие, поверив участливым словам и широким предложениям, ринулись «домой», тем более что российскую границу можно было пересекать свободно. Одни бежали от военных действий (Таджикистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова), другие — от дискриминации по национальному признаку, поскольку превратились в национальное меньшинство, третьи боялись политической нестабильности, кто-то просто ехал в страну, где жизнь побогаче.
Но через некоторое время многие из них обнаружили себя на положении «нелегалов». Они попадали в известный порочный круг: нельзя устроиться на работу, не имея регистрации, нельзя зарегистрироваться (по-старому — прописаться), не имея жилья, нельзя ни купить, ни снять жилье, не имея ни работы, ни регистрации.
Во время последней Всероссийской переписи населения насчитали около 2 миллионов «лишних» граждан, которым по документам и данным статистики взяться было неоткуда. Это и есть те самые «нелегальные мигранты», против которых направлен обличительный пафос политиков-популистов и чиновников от МВД. На самом деле их наверняка намного больше. В печати появляются порой совершено нереальные цифры — до 20 миллионов человек. Однако экспертные оценки находятся в диапазоне 3—4 миллионов.
Сладить с этим потоком попытались привычным способом: обретение права на работу и на гражданство прямо на глазах обрастало запретами и бюрократическими сложностями. Это стало особенно бросаться в глаза после расформирования в 2001 году Федеральной миграционной службы и передачи ее функций милиции, которая и так уже давно и небескорыстно проявляла огромный интерес к мигрантам. Концепция миграционной политики, объявленная МВД в 2002 году, изобиловала запретами и вообще не рассматривала возможностей легализации и натурализации мигрантов.
В самое последнее время власть, оценив размеры демографического провала, задумала облегчить участь нынешних и будущих мигрантов, ограничив запреты, поборы и бюрократические требования. Однако даже в замыслах авторов новых проектов миграционной политики нет другой задачи: сделать страну привлекательной для мигрантов.
Мифы о мигрантах
Негативное отношение к мигрантам в России связано с рядом мифологем, преодолеть которые в общественном сознании оказалось крайне сложно, даже в среде людей, не зараженных бациллой ксенофобии.
«Их слишком много». Последние 20 лет доля иностранных работников в западных странах все время росла и к началу нового века составила: в Германии — 9% общего числа занятых, в Австрии — 10%, в Швейцарии — 18%. В России, по официальной статистике, — менее 0,5%. Правда, по неофициальным оценкам, их доля — 5—7%, примерно, как в Бельгии, Франции и Швеции.
«Они занимают наши рабочие места». Опыт Москвы и западных стран показывает, что иммигранты занимают прежде всего рабочие места, на которые местные идти не желают. Экономисты самой открытой из западных стран, Америки, подсчитали, что за 1975—1995 годы иммиграция увеличила на американском рынке труда предложение неквалифицированной рабочей силы на 21%, а квалифицированной — на 4%. В России работники-мигранты так распределяются по отраслям: сельское и лесное хозяйство и заготовки — 25%, торговля, общественное питание — 20%, промышленность — 12%, строительство — 17%, транспорт — 15%, бытовое обслуживание — 4%. В графе «другое» (7%) спрятаны домработницы, сиделки, проститутки и т. д. Представитель московского правительства С. Смидович признает: «Конечно, без мигрантов в Москве не было бы ни такого размаха строительства, ни столь широкого развития рыночной торговли, да и общественный транспорт без них не смог бы обойтись».
«Они сбивают цены на наш труд». Влияние демпинговых цен труда иммигрантов на зарплату местных на самом деле противоречиво, но всегда ничтожно. Немецкие экономисты утверждают, что увеличение на 1% доли иностранных граждан в общей численности населения Германии чуть-чуть (на 0,6%) поднимает заработную плату. Причем зарплаты высококвалифицированных работников растут больше — на 1,3%. По данным других исследований, влияние дешевого труда мигрантов на зарплату местных работников действительно негативное, но оно колеблется в пределах 0,3—0,8%. Но даже это снижение компенсируется уменьшением цен на товары и услуги.
«Они вывозят деньги из страны». При наших ценах на иммигрантский труд люди, приехавшие к нам, чтобы поддержать свои семьи, высылают домой в среднем сто долларов в месяц. Вряд ли этого достаточно для ощутимой утечки капиталов за рубеж. Зато хватает, чтобы наполовину (41% опрошенных), а то и полностью (23%) обеспечить своих домочадцев (опрашивали только иммигрантов, работающих по найму или занимающихся мелким бизнесом; те, кто сам нанимает работников, конечно, могут выслать домой больше денег).
Готовимся жить хуже?
Между тем на рубеже веков Россия вместе с развитыми странами мира оказалась перед непростой дилеммой: или «закрываться» от мира, потихоньку стареть и сдавать свои экономические, политические и культурные позиции, или принимать все больше мигрантов и через какое-то время оказаться в другой стране, с иной культурой, иным этническим составом населения.
В отличие от Европы и Америки большинство иммигрантов в России в культурном отношении очень близки к ее основному населению. Но, несмотря на это, уровень ксенофобии россиян еще выше, чем в европейских странах. Неприязнь к мигрантам испытывают более половины постоянных жителей страны, с очень небольшой разницей в зависимости от образования, уровня доходов, занятий. Отрицательно относятся к мигрантам 65% безработных и столько же — специалистов, пользующихся дешевыми услугами приезжих. Повышенной агрессивностью на общем фоне выделяются военнослужащие, сотрудники МВД (73%), рабочие (72%) и пенсионеры (70%); впрочем, недалеко от них ушли и учащиеся (69%).
Очевидно, дело тут не в мигрантах, а в самом российском обществе, фрустрированном потерей былого статуса великой державы, экономическим кризисом и занятом поиском виноватых во всех действительных и воображаемых бедах последних десятилетий. Многие, кто считает, что за это время их социальный и экономический статус понизился, ищут вдобавок тех, кого могут сегодня поставить ниже себя и самоутвердиться за их счет. Это предположение подтверждается повышенной неприязнью и агрессивностью горожан к гражданам собственной страны, приезжающим в их город, и к россиянам — выходцам из республик Северного Кавказа. Такой психологический фон придает легитимность насилию, вымогательству, всевозможным нарушениям законов в отношении к иммигрантам.
Нравится нам это или не нравится, но чтобы сохранить нынешнее число работоспособных граждан в ближайшие 25 лет, нам за этот период следует принять 21 миллион мигрантов. И теперь уже — не только русскоязычных. Пока российское общество и российское государство совершенно к этому не готовы. Тогда надо быть готовыми «жить хуже».



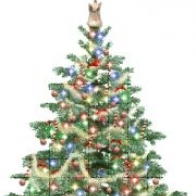

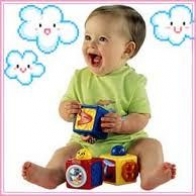





 Противовирусные препараты: за и против
Противовирусные препараты: за и против Добро пожаловать в Армению. Знакомство с Арменией
Добро пожаловать в Армению. Знакомство с Арменией Крыша из сэндвич панелей для индивидуального строительства
Крыша из сэндвич панелей для индивидуального строительства Возможно ли отменить договор купли-продажи квартиры, если он был уже подписан
Возможно ли отменить договор купли-продажи квартиры, если он был уже подписан Как выбрать блеск для губ
Как выбрать блеск для губ Чего боятся мужчины
Чего боятся мужчины Как побороть страх перед неизвестностью
Как побороть страх перед неизвестностью Газон на участке своими руками
Газон на участке своими руками Как правильно стирать шторы
Как правильно стирать шторы Как просто бросить курить
Как просто бросить курить

 - 2263 -
- 2263 -



