
За окном летела бесконечная ночь. Казалось, это она, а не наш поезд жестко и глухо стучит колесами. Ночь покачивалась, вздрагивала, ее рассекали всполохи близких фонарей, а в черной глубине блуждали далекие огоньки поселков и городков. Этот ночной мир то замедлял движение, то стремительно проносился мимо чуть запотевшего окна нашего купе...
...Только вчера я среди многих людей встречал этот поезд на Курском вокзале столицы.
Помнил, как диктор, обыденным голосом объявлявший о передвижении составов, произнес вдруг отчетливо и медленно: «Внимание! На первую платформу прибывает агитпоезд ЦК ВЛКСМ, выполняющий специальный рейс, посвященный «Маршу мира советской молодежи». И люди, что находились в ту минуту на вокзале: встречающие и пассажиры, деловито спешащие со своими поклажами, мороженщицы и даже носильщики, народ невозмутимый и сосредоточенный, оторвали взгляды от чемоданов и посмотрели в сторону платформы, видной сквозь стеклянную стенку вокзала. Туда неторопливо вползал локомотив, а за ним — красные вагоны с надписями «Комсомольская правда» на борту и эмблемой «Марша мира».
Локомотив чиркнул тормозами, вздрогнул, напрягся и будто перевел дыхание: «У-ф-ф...» В небо вдруг сорвалась целая стая голубей и рассыпалась стремительно и громко, треснув упругостью крыльев...
Все это было день назад. Сейчас Москва осталась позади, поезд шел в Смоленск, а я сидел в купе этого поезда и разговаривал с Лешей Чесноковым. Леша из Иркутска, работает там в молодежной газете. В агитпоезде находится с первого дня его движения. Рассказывал, что, когда началась подготовка к рейсу, он соглашался, если понадобится, спать стоя, только бы проехать с поездом с первого до последнего дня...
— Комсомольск-на-Амуре, Экибастуз, КамАЗ — словом, интереснейшие города, большие стройки — и все это как-то разом, одной сильной яркой картиной. Такое, наверное, раз в жизни выпадает...— говорил Леша. — И знаешь, что интересно? — У его глаз часто собираются морщинки, и лицо от этого кажется улыбчивым. — Наш поезд постоянно убегает от зимы. Она, говорят, в этом году запаздывает и догнала нас только в Павлодаре. Там было морозно и снежно. Ты вот что, найди Сашу Пономарева, заместителя руководителя поезда, поговори с ним. Только его поймать надо. Неуловимый. А я поработаю, утром хочу отправить материал в редакцию. Ждут там.— И Леша, плеснув из банки в стакан черного чая, начал раскладывать на столике бумагу, фотографии.
Я шел по вагонам. Через грохот тамбуров. Заглядывал в раскрытые купе. Спали, похоже, только те, кого дорога укачивает, другие, кого она будоражит, вселяет беспокойное чувство обновления,— эти люди уснуть не могли, и они говорили, спорили, вспоминали. А Пономарева нигде не было. «Только что забегал»,— сказал мне киномеханик Женя, который разматывал кинопленку в вагоне-клубе. «Вышел минуту назад»,— обнадежил меня усатый парень в штабном вагоне, подняв голову от карты с маршрутом нашего поезда. «Недавно заходил»,— сказала с верхней полки девушка в черном свитере с гитарой в руках и снова начала перебирать струны, глядя в нотные листы, разложенные на подушке. Наконец, уже отчаявшись, в третий или четвертый раз проходя мимо купе Пономарева, безнадежно постучал в дверь и вдруг услышал: «Смелее!»
Саша сидел один, и на коленях у него лежала стопка постельного белья, которую он, коротко вздохнув при моем появлении, отложил в сторону. «Мне бы...» — начал было я, но он тут же перебил: «Садись. Все ясно. Но только условимся, рассказываю самую суть».
Наши взгляды встретились, и в Сашиных глазах я прочел смертельную усталость. Но в то же мгновение он пружинисто откинулся к стенке купе, вытянул ноги в начищенных до блеска ботинках и заговорил. Я почувствовал, что Саша из тех людей, которые в трудные минуты жизни стараются улыбаться.
— Цель нашего рейса — пропаганда «Марша мира советской молодежи», — говорил Саша. — Специальный рейс агитпоезда — это 20 тысяч километров, 7 часовых поясов, 39 городов, это ударные комсомольские стройки — БАМ, КАТЭК, «Атоммаш» и так далее... Стартовали мы 24 октября 1982 года в Советской Гавани, с наших дальневосточных берегов. В день открытия Недели действий за разоружение, объявленной Организацией Объединенных Наций... Символично,— сказал Саша,— что именно наш, трудовой, бамовский поезд несет сегодня эстафету мира по стране.
— А почему «бамовский»? — спросил я. И он рассказал, что первый рейс агитпоезда начался семь лет назад, когда он ушел к строителям Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Семь лет курсирует поезд по дорогам Сибири и Дальнего Востока, и бамовцы называют его «красным эшелоном».
— В ходе рейса уже собрано более 10 миллионов подписей под обращением в штаб-квартиру ООН и под письмом протеста в адрес вашингтонской администрации, руководителей НАТО, — продолжал Саша. Рассказывая, он оживился, вспоминая подробности, эпизоды поездки, восхищался тем единодушием, с которым молодые жители городов, где останавливался поезд, присоединялись к движению за мир и разрядку. Потом Саша встал, взглянул в зеркало, поправил галстук, повел плечами и шагнул к двери купе:
— Пошли. Чтобы ты полнее представил, что такое «Марш мира».
Вновь прямизна вагонов, лязг тамбуров и дрожащий под ногами пол...
Наконец мы оказались в вагоне-клубе, и Саша подвел меня к стене, на которой висел листочек из альбома по рисованию. На нем детской рукой была нарисована черная бомба, перечеркнутая крест-накрест двумя линиями. А под рисунком большими буквами написано: «Я предлагаю переплавить все бомбы и сделать карусели. Пусть все дети катаются и никто не плачет».
— В Барнауле к поезду прибежал мальчишка и принес этот рисунок,— пояснил Саша. Помолчал. И вдруг неожиданно добавил: — У меня недавно дочка родилась...
А потом мне еще рассказывали, как в Шарыпово к поезду собрались десятки мальчишек и девчонок, которые принесли свои любимые игрушки. Они отдавали их участникам агитрейса и просили передать детям палестинских беженцев.
Сейчас игрушки ехали вместе с нами.
Еще я успел познакомиться с Таней Андриенко, девушкой из Усть-Кута, и она рассказала, что работает в бригаде строителей, они возводят дома на самом берегу Лены. И что еще в школе она решила попасть именно на БАМ и никуда не собирается оттуда уезжать. Говорила о своем муже, который водит в дальние рейсы тяжелые грузовики, и как бы поздно он ни возвращался, Таня всегда его ждет и потому счастлива. «Ведь счастье,— говорила Таня,— это когда ждешь и волнуешься, а потом встречаешься» — так и сказала. А когда я спросил ее об отце, Таня осеклась и долго молчала. Как-то очень по-взрослому, по-мужски сморщила лоб и молчала, глядя в черный квадрат окошка.
— Отец у меня умер. Умер 9 мая. От ран, которые получил во время войны,— говорила она, так и глядя в черное окошко поезда. — Его контузило в боях на Одере. Он никогда не рассказывал нам с мамой о войне... Но однажды, я этого никогда не забуду, разговорился вдруг с нашим соседом, который тоже воевал, и они сидели допоздна и все вспоминали, вспоминали... А потом отец кричал во сне. Страшно кричал. Слова атак. Команды. Проклятия. Нам с мамой было очень страшно.
Я подумал тогда, что пройдет еще много времени, по Байкало-Амурской магистрали будут идти поезда с хорошей скоростью, и уже начнутся другие стройки, и на них будут работать дети, быть может, внуки сегодняшних бамовцев, но и тогда слово «война» будет бить по душам и, вспоминая ее, люди будут сжимать от волнения пальцы, как это делала Таня Андриенко, девушка из Усть-Кута.
Гасли разговоры в глубине нашего вагона. Все меньше оставалось приоткрытых дверей купе. Я возвращался к себе, как вдруг, дойдя до середины вагона, услышал чей-то голос: «Нас не надо жалеть, ведь и мы никого не жалели...» Кто-то вспоминал фронтового поэта, ушедшего из жизни на самом острие своего возраста и таланта... И голос, и строки прозвучали так неожиданно, что я остановился и слушал, боясь вспугнуть эту минуту. Но вот строки оборвались тишиной, я почувствовал, что поезд замедляет ход, колеса забухали глуше, спокойнее, и тот же голос произнес: «Вязьма, война...» И опять все стихло. Поезд стоял у пустого перрона, облитого зеленоватым светом редких фонарей. Над станционным зданием с надписью «Вязьма» кружил редкий, крупный снег...
В ту ночь мне снился юный солдат в зеленой выцветшей гимнастерке. Он бежал по снегу, потом вдруг падал, пропахав подбородком этот белый снег, и снова вставал...
Я раскрыл глаза от резкого толчка. Поезд тормозил. Потянулся к окну, отодвинул шторку и вместе с ней будто оттолкнул последние сумерки. В глаза ударил свежий яркий день, стремительный в движении. Город накатывался пригородными постройками, приближался разнополосицей рельсов — подъездных путей...
Смоленск.
Помню, как протиснулся через огромную толпу людей, собравшихся на вокзале. Начался митинг. Какая-то девочка школьница говорила с трибуны. Я искал человека, о встрече с которым договорился еще из Москвы по телефону. Знал о нем немного: что воевал он на смоленской земле, что сейчас, в свои шестьдесят шесть, руководит городской типографией. Тогда по телефону он сказал: «Я приду к поезду. Конечно, приду, как же!» И в конце еще сказал: «Невысокого роста я. Седой совсем. В черном пальто буду. Узнаете». И в его далеком голосе уже тогда прозвучала удивительная убедительность. Я совершенно не сомневался — сразу узнаю.
Он стоял у колонны, у входа в вокзал.
— Вы Шараев? Николай Семенович?
— Здравствуйте.
Шараев вел меня по городу. И рассказывал о себе. Вспоминал день начала войны.
— Я был на стадионе. Даже цвет неба помню: бирюзовое было небо, не синее, а бирюзовое. А день — солнечный и жаркий. На трибунах кричали, свистели, хлопали. И было много детей. А ровно в двенадцать из черного репродуктора над трибунами раздался голос... Тысячи глаз в одной черной точке сошлись. Все стали вдруг спокойными и суровыми...
А еще запомнил, как при выходе со стадиона девчушка одна повернулась к отцу и обиженно так, громко сказала: «Папка, а праздник? Бегунов обещал, папка!» Он взял ее на руки, поднял и прямо в глаза ей говорит: «Война, дочка, война. Все, дочка. Тише». И так он это сказал, что у меня спину холодом окатило...
Гудел моторами машин город. Открывались и закрывались двери магазинов. Зелено-красным глазели светофоры. Мы свернули в переулок и вышли к саду имени Глинки, обнесенному каменной оградой.
— На третью ночь на Смоленск упала первая фашистская бомба, — рассказывал Шараев. — А здесь, — мы остановились у трехэтажного дома с окнами на сад, — я видел первый массированный налет немецкой авиации.
Шараев шагнул вдруг прямо в сугроб, провалился по колено и, пройдя несколько шагов, остановился:
— Вот тут,— показал себе под ноги, оглянувшись на меня, — тут и была щель, а в ней я в ту самую ночь... В самом начале войны я был секретарем горкома комсомола. Горком в этом трехэтажном здании и располагался. Двадцать пять мне стукнуло. В ту ночь впервые за неделю после начала войны собрался домой забежать. Жена ведь там одна... — он сказал это таким тоном, будто извинялся за что-то. — Зашел к дежурному Грише Трегубову предупредить, и тут пошли самолеты. Небо, знаешь, загудело, как заорало, будто к земле поползло небо. — Шараев вскинул руки и резко бросил их вниз. — Мы с Трегубовым из здания выскочили и в щель эту. В ней уже было полно людей. Плечом к плечу. Они зажигательными бомбили. Впервые мы тогда зажигательные бомбы увидели. Это уже потом к ним привыкли — схватишь ее щипцами и с крыши долой. Дома через час запылали. Я, поверишь, никогда не думал, что кирпичи так гореть могут. Они как гранаты рвались, и осколки — в разные стороны. А ночь звездная была. Настоящая летняя ночь...
Он вышел из снега, тщательно отряхнул брюки, выпрямился, потопал ногами.
— Удивишься, но в ту ночь у меня только одно желание было. До безумия хотелось увидеть рассвет. Восход солнца...
Он помолчал, оглянулся на дом, посмотрел на снег, где остались вмятины от его ног, и снова сказал:
— Пошли, что ли?..
Полчаса мы шли, и он не проронил ни слова. Шли по саду имени Глинки, между сонных темных деревьев. Потом я услышал от него, как тушили пожар в городе, как радовались люди, когда восстановили радио и услышали голос Москвы. Вздохнули одним вздохом: «Живы, значит...»
Затем он сражался за Москву, на Можайском направлении...
А в мае 1942 года Шараев попал в Дорогобужский партизанский край в полк имени Сергея Лазо, где и стал комиссаром партизанского отряда, с которым прошел на юг Смоленской области в район Рославльского железнодорожного узла.
По мраморному квадратику сползала капля. Сползала медленно, оставляя влажный живой след. Он пролегал рядом со строками «Герой Советского Союза партизан Куриленко Владимир Тимофеевич», дальше выбиты даты: 1924—1942. Восемнадцать лет. Восемнадцать лет жизни. Шараев скользил глазами по мраморным квадратикам, идущим длинной строкой по стене из темно-красного кирпича. У Вечного огня застыли в белых армейских полушубках фигурки мальчишек с автоматами в руках — почетный караул. Мы находились в Сквере памяти павших в годы Великой Отечественной войны. Шараев зябко повел плечами и тихо, как бы самому себе сказал:
— А в черточках-то этих, между датами, вся жизнь человеческая. Короткая, черт возьми, очень короткая. Но жизнь-то нужная. Нам. Всем. Будущим.
Упруго пронесся ветер, пламя заколебалось, но вскоре выпрямилось и поднялось вновь.
— Слушай, Про одну операцию расскажу,— заговорил Шараев.— Ох и дали мы им тогда жару на Пригорье! 15 октября 1942 года наш отряд был переименован в партизанскую бригаду. Главная задача — взрывы мостов, эшелонов, чтобы не мог враг беспрепятственно подбрасывать силы к фронту. В сентябре фашисты больше трех недель по ночам прекращали движение — боялись нас. Весь лес повырубали у полотна. Гарнизонов везде понаставили. А мы им все равно подарок приготовили — решили в ночь с 4-го на 5 ноября, как раз к празднику, напасть на станцию Пригорье. Потом эта операция была расценена как одна из крупнейших, совершенных партизанами в годы войны.
Станцию оккупанты считали неуязвимой. Рядом Рославль — там их крупные силы. В другую сторону — большой аэродром, сильный гарнизон его охранял. В семидесяти километрах от станции еще линия фронта проходила. Ну никак они нас не ждали, никак... Лагерь наш в ста километрах от станции находился. Прошли, помню, прямо по болоту, деревни огибали и вышли к станции. Ночь глухая, темная, ненастная. Хорошая была ночь. Остановился я вместе с начштаба Коротченковым за углом какого-то дома. Слышим далекий говор немецких часовых. «Поговорите,— думаю,— поговорите...» Сигнала ждем. У меня на пределе не только нервы, все внутренности, кажется. А у Коротченкова, вижу, хоть и спокойное лицо, а трубка в зубах так и прыгает — его волнение всегда по трубке определяли, по частоте затяжек.. И вот ровно в двадцать три бой закипел. Ближний бой, стремительный. Сразу в нескольких местах ребята пошли. Взлетели в воздух два моста. Я Коротченкова под руку толкаю — пора, мол, Тимофей Михайлович, и нам срываться. А он в ответ: «Не время еще, Шараев, не торопи. Слушай огонь, огонь понимать надо. Тут ты на балалайке не проедешь...»
— Какой балалайке? — не понял я. Шараев широко улыбнулся:
— А с балалайкой у меня в жизни случай был забавный. Я Коротченкову про него рассказывал. Однажды мы с приятелем, еще совсем молодыми были, без билетов на поезд сели, и, когда кондуктор поймал нас и выгонять начал, я ему давай на балалайке наяривать, а он заслушался и не ссадил нас с поезда. Вот и вспомнил мне эту историю начштаба...
Немцы сопротивлялись отчаянно, зло, до последнего. На путях эшелон с самолетами оказался, а там экипажи — отборные эсэсовские войска. Но и их подавили довольно быстро. Хорошо наши ребята работали, уверенно... Мы с Коротченковым ворвались наконец в самую гущу боя. Пригнулся я и побежал. Оглянулся и вижу: Коротченков идет в полный рост, да так спокойно, уверенно, что мне стыдно стало. «Ну, комиссар,— говорю себе,— страшно тебе? К земле потянулся?» Словом, подождал я Коротченкова, выпрямился и, как он, в полный рост пошел. Захватили мы станцию и удерживали ее часа четыре. Уничтожили тогда 370 гитлеровцев, сожгли все эшелоны с бронетранспортерами, самолетами, грузами, что на путях готовые к отправке стояли. Двенадцать дней после этого немцы станцию восстанавливали, двенадцать дней поезда к Брянску через нее не ходили...
Мы стояли у мраморных плит, и я видел, что мальчишки, застывшие в почетном карауле, четыре пары детских глаз скосились на моего попутчика, пожилого седого человека, сейчас замкнутого и сурового. Он нагнулся и расчистил пятно налетевшего на мрамор снега, затем долго стоял, думая о чем-то своем, может быть, опять вспоминая то, о чем даже не рассказывают?..
Ветхое серое небо линяло и темнело на глазах, набирая густой, темный цвет. Упал снег, закружил, собираясь плотными стаями под шапками желтых фонарей.
Мы шли в колонне людей — участников факельного шествия, посвященного «Маршу мира». Красноватые отсветы факелов носились и ломались на снегу, на лицах, на знаменах, а люди шли и шли бесконечным потоком. Шли к кургану Бессмертия.
— Курган этот руками насыпали, — сказал мне тогда Шараев. — Был я на его закладке. Тысячи участников войны несли землю: в кульках, в узелках, в горстях. А стоит курган на том месте, где фашисты массовые расстрелы смолян устраивали...
Вскоре мы подошли к стеле. На основании ее слова: «Люди, покуда сердца стучатся, — помните, какою ценой завоевано счастье, — пожалуйста, помните!»
Уже поздно ночью мы с Шараевым снова были на вокзале. Провожали агитпоезд. Он уходил дальше, на Брест.








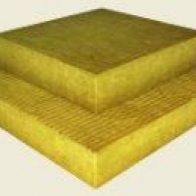


 Противовирусные препараты: за и против
Противовирусные препараты: за и против Добро пожаловать в Армению. Знакомство с Арменией
Добро пожаловать в Армению. Знакомство с Арменией Крыша из сэндвич панелей для индивидуального строительства
Крыша из сэндвич панелей для индивидуального строительства Возможно ли отменить договор купли-продажи квартиры, если он был уже подписан
Возможно ли отменить договор купли-продажи квартиры, если он был уже подписан Как выбрать блеск для губ
Как выбрать блеск для губ Чего боятся мужчины
Чего боятся мужчины Как побороть страх перед неизвестностью
Как побороть страх перед неизвестностью Газон на участке своими руками
Газон на участке своими руками Как правильно стирать шторы
Как правильно стирать шторы Как просто бросить курить
Как просто бросить курить

 - 3039 -
- 3039 -



