«До Могилы? — переспросил меня сухой дедок в заляпанном известкой картузе и широких брюках, под самые ребра затянутых тонким ремешком.— А вот от центра свернешь в проулок, там выскочишь на песчанку и прямо, хоч и подкинет кривулей дорога, а ты все прямо — так тебе и будет Могила. А ты до кого там?»
Я смотрел озабоченно по сторонам, вроде по делу, и тянул с ответом. Наконец вырвалось: «Так... ищу».
Дедок дернул картуз на глаза и пропал — шмыгнул в прохладу и бодрящие запахи хозяйственной лавки.
Хуторки и улочки села Шульговки вольно раскинулись по левому берегу Днепра километрах в шестидесяти от Днепропетровска. Одно из шульговских кладбищ, куда я держал путь, расположено на южной окраине села. Место это издавна называли Зеленой могилой или просто Могилой — так степняки обычно нарекали возвышенные места. Я проскочил низинку, устланную жесткими сухими травами, обогнул кучу сломанных, полусгнивших крестов и стал подниматься на холм.
Рядом с Зеленой могилой дедова хата — «батьковщина», в которой родился и мой отец. Неподалеку, на хуторке Перекрестном, выросла бабушка. Здесь, на Могиле, под камнями, крестами и пирамидками лежат мои шульговские предки. Что знаю я о них? И какая она, Шульговка, сегодня?
В кленовой рощице дернулась малая птаха. «Ты чей? Ты чей?» — продрался сквозь плотную листву ее голос. Высоко, нерасчетливо косо подпрыгнул кузнечик и, ударившись о крест, свалился в траву. И затихло все вокруг. В потоках медленно народившегося и сразу окрепшего летнего дня белые хатки-мазанки, казалось, возносились над степью и плыли вместе с облаками на юг...
Шульговка возникла в давние времена неподалеку от устья Орели, притока Днепра.

Места по плавневым орельским берегам были просторные, вольные, сытные. В конце XVII века московские послы так описывали эту местность: «... Вод и конских кормов, и рыб, и птиц, также зверей, которых Господь Бог благословил людям в пищу, там довольно». Посланцам московского государя, вероятно, уже встречались тут сторожевые посты запорожских казаков. Позже возле дозорных вышек стал оседать беглый люд с севера, разоренные набегами степняков землепашцы, вольные мастеровые, уставшие от скитаний по разноязычным землям странники. Нередко и сами казаки ставили здесь «зимовники» — отсиживались зимой по теплым хатам, а летом выезжали в степь «казаковать». Позже приорельские поселения стали входить в Протовчанскую паланку (область) Запорожского казачьего войска.
В «Материалах для историко-статистического описания Екатеринославской епархии», составленных преосвященником Феодосией в 1880 году, написано: «Слобода Шульговка — древнейшее запорожское займище, старожитная казацкая маетность». По рассказам стариков, село было основано где-то в первой половине XVIII века бывшим сечевым сотником Остапом Кызем. Название поселения произошло от вербы-шелюги, прямые, с красноватой корой лозы которой покрывали склоны песчаных гряд вблизи хат. По преданию, это было так. Однажды поселенцы с топорами и лопатами пробивались через «густянку» — по густым зарослям вели дорогу к Днепру. На берегу возле лодок-дубов варили юшку перевозчики. Увидели вышедших из чащобы людей и удивились: «Откуда вы такие?» Те переглянулись, и кто-то шутливо бросил: «Из шелюгов». Перевозчики подумали, что так называется неизвестное им село, и спросили: «Раз вы из Шелюгов, значит, старшина у вас Шульга?» Никто не стоял над поселенцами, никакой старшина им еще был не указ, но все же на всякий случай (ведь среди них были и беглые) кивнули на Кызя. Так бывший сотник стал Шульгой, а перевозчики отправились на правый берег с известием о новом поселении Шелюговке.
К шульговским берегам прибивало все новый люд. Он стекался сюда с полтавской стороны и Слобожанщины, с Правобережья и верховий Днепра — всех привечала и кормила плавневая «густянка» и степная целина. Село росло, ширилось, вбирая в себя хуторки, зимовники, займища. Я не знаю, откуда пришли сюда мои предки — с казацкого Великого Луга или с обжитой, раздираемой большими и малыми магнатами полтавской стороны. Как бы там ни было, в одном уверен: мой далекий предок был вольным человеком, не терпел насилия и унижений. Однажды позвала его степная дорога и привела на эти вольные земли, которых так и не коснулось крепостное право...
От Могилы шульговская дорога вьется между плетнями по тенистой улочке Фермовской, которую по-старому называют Жуковкой. Тут в белой хате под тростниковой крышей живет бабушкина сестра Татьяна Евсеевна Перетятько, или попросту баба Тетяна. Осторожно отодвигаю ворота: приподняв, волочу по земле, петель на воротах нет — к плетню они прикручены проволокой, привязаны лозинами, ремешками, веревочками. За воротами по широкому двору ровно и чисто стелется спорыш.
Баба Тетяна выныривает... не успеваю уловить, откуда она так внезапно появляется — то ли из-за хаты, то ли из-за повети, но вот уже, переваливаясь и одергивая сзади косынку, шорхает по траве тапочками мне навстречу. Вылинявший фартук мотается туда-сюда, вокруг шеи подпрыгивают новенькие стеклянные бусы, на груди болтается большой блестящий крест. На круглом припухлом лице и испуг, и радость, и удивление.
— Вовка, ты? Тю-ю, не впизнала, ей-бо, не впизнала.
После расспросов о здоровье городских родичей и традиционного вздоха: «Старость, куда ж поденешься, нехай господь милуе и заступав», начинаю доставать из рюкзака гостинцы. Баба Тетяна испуганно хлопает себя по бедрам:
— QU, матинко, та мне ж ничего не надо! Та куда ж столько! Я ж сама, поклюю раненько, як курча, и до вечера... Отдохни пока с дороги, а я с кочанами управлюсь.
Баба Тетяна падает на низенькую скамеечку рядом с деревянным корытом, высыпает из мешка на траву прошлогодние початки и азартно начинает драть зерно, используя для этого старый напильник без рукоятки. Я нахожусь в том дорожном равновесии, когда все, что вокруг, входит в меня и сразу, без усилий находит свое место — ложится ровно и покойно в будущую память. Старательно, без подтеков и разводов, побеленная хата. На торец навалены связанные сухие кукурузные стебли — для тепла. Дверь распахнута, поперек косяка, примерно на уровне пояса, вставлена палка — это означает, что хозяйки нет в доме, но она здесь, поблизости. От порога тропка полумесяцем огибает раскидистую яблоню, рядом с которой стоит глиняная печь — в ней обычно готовится варево цыплятам и сушатся сливы на зиму. Дальше, слева от тропинки, которая прямо бежит по зеленому двору,— обнесенная плетнем поветь и хатка для птицы, справа — клуня. Все постройки глиняные, покрыты тростником — лет им по семьдесят, не меньше.
Переступая через тыквенные плети с огромными, как блюда, листьями, бездельно кружу по двору. Подбираю яблоко и возвращаюсь к бабе Тетяне, которая продолжает обрабатывать початки — корыто уже наполовину заполнено желто-белым зерном. Ложусь спиной на теплый спорыш, пряча голову в тень от возка. «Др-тр, др-тр»,— раздается над самым ухом. Я смотрю на белую хату, застывшую посреди августовского зелено-желтого кипенья, и рассказы о прошлой жизни, слышанные от деда и бабушки, от их шульговских земляков, которые тоже живут в городе и время от времени проведывают стариков,— всплывают в памяти. Баба Тетяна уточняет подробности, по-своему окрашивает некоторые события.
...Круг за кругом бегут года — один век минул, другой потек, но вот и его спираль закончилась, начало считать круги новое столетие. К тому времени, когда родился дед, а случилось это в первый день двадцатого века, Шульговка уже была богатым волостным селом. С православной церковью, школой, ярмарками. Жило в нем 3700 человек. Ныне население его дотягивает лишь до 1500... И большая часть пенсионеры. Ни о какой церкви (от нее и основания не осталось), ни о каких ярмарках, конечно, и речи нет. Школа расположена в здании, построенном в начале века, вывеска «Дом культуры» прикреплена над дверью строения, в котором когда-то находилась то ли конюшня, то ли амбар.
Когда же и как это случилось? Что произошло с Шульговкой? В середине двадцатых годов дед еще жил в селе. Обзаведясь семьей, собирался даже строить хату и расширять хозяйство. Но набирала темпы коллективизация. Под нажимом властей дед вынужден был отдать скот и зерно в общее пользование. И жить на земле, на которой он перестал быть хозяином, уже не смог. Бросил недостроенный дом и подался в город. Кто был смышленее, расторопнее, кое-что успел повидать на белом свете, бежал без оглядки от родных камышовых хат. Село поредело. Тому, кто остался в родительских хатах, жилось все труднее и унылее. Старое, устойчивое и проверенное опытом предков, рушилось на глазах, а новое давило непомерными тяготами, даже лучшее, что было в нем, не радовало, часто оборачивалось для обессиленного шульговца обузой, лишь мешало хоть что-то (что-то насущное!) удержать из старого.
У бабы Тетяны в хате над столом, чтобы не сыпалась побелка, прикноплен плакат, на котором изображены четверо скуластых широкогрудых парней. Ниже крупными красными буквами выведено: «Бригада — рачительный хозяин». Еще ниже — столбики мелкого текста, который наполовину прикрыт крынками — «тыквами», стопками мисок, завернутыми в тонкие платки буханками хлеба. Баба Тетяна ни сном ни духом не ведает о том, что напечатано на плотной мелованной бумаге. «Не доберу, шо воно там и до чого»,— машет она рукой, будто отгоняет назойливую муху. Все объясняется просто: баба Тетяна не умеет ни читать, ни писать. Когда-то она одну зиму отходила в школу, могла с грехом пополам складывать из букв слова, но потом за ненадобностью стала забывать грамоту — к старости азбучные истины совсем стерлись из памяти.
— Шо ж ты хотел — робылы тоди як скаженые. А як налогами почалы давыты, так хоч у петлю залазь. Шоб заплатыть той налог, я садыла тютюн. У город по 800 стаканов носыла на продаж. Так уже тяжко було, шо аж мясо од маслакив одставало. У деда спытай, яка я до них прыходыла после базарю — падала, як тая пидбыта гуска.
Баба Тетяна отдыхает — сидит прямо, положив на фартук руки. Держит она их ладонями вверх, будто остужает. Твердые, в черных порезах и царапинах пальцы не распрямить до конца, сжать в кулак их, пожалуй, уже тоже не удастся. Я видел дивные узоры, вышитые этими руками на рушниках и сорочках. Давным-давно это было, будто бы даже в другом селе, на окраине другой степи — десятки лет хранятся домотканые полотняные изделия на дне сундука. Всю жизнь баба Тетяна проработала на ферме. Знала одну дорогу: стежка по спорышу, песчанка под акациями, тропка по краю толоки и... низкий черный вход в холодное помещение, где блестели глаза голодных коров. Забот у нее и в хате, и на дворе, и в огороде — «хоч криком кричи, а до смерти не переробыш».
А кто в селе живет беззаботно и беспечально? Наш разговор с председателем сельсовета Станиславом Поликарповичем Горбулею то и дело прерывался телефонными звонками — отовсюду сыпались на его голову, в седоватых уже завитках, наказы, инструкции, разъяснения. Ну а если аппарат долго и многозначительно молчал, председатель не выдерживал и, прижав обтянутым черной кожей плечом трубку к уху, сам накручивал диск. Между звонками Станислав Поликарпович, старожил этих мест, вяло перечислял шульговские проблемы. Жмут, давят со всех сторон — там подтяни, тут выбей, туда направь отчет. А молодых рабочих рук в селе все меньше. Да, конечно, нужна школа, да, клуб, жилье надо строить, но опять же — как? кто? Что мы можем, что имеем?
А что имели? Что могли? Разговор наш в конце концов свернул в это русло.
— Вот у нас сколько-нисколько,— вздыхал председатель,— а лошади есть, может, даже до полусотни наберется. Так их же некому подковать.
Нет таких уже мастеров в селе. Так и ходят бедолаги босые.
— А нужны лошади в хозяйстве?
— Если по-умному, еще и как нужны!
Опять коснулись строительных проблем. С одной, с другой стороны к ним подошли. Станислав Поликарпович оглядел просторный кабинет, оклеенный веселыми розовыми обоями.
— Чуть подстроили, подправили — и живем. Это ведь бывшая куркульская хата. Ей лет семьдесят — не меньше.
— А из чего построен дом? — спросил я, пропустив слово «куркульская», решил, что в лексиконе председателя оно просто характеризовало добротность и надежность строения.
— Из глины. Тут все так испокон веков строили. Потом уже кирпичом, плиткой обложили.
Станислав Поликарпович задумался, потер усиленно подбородок.
— При нынешнем кирпичном дефиците можно было бы, наверное, нам и сегодня глину использовать. В Магдалиновском районе есть колхоз, как и наш «Дружбой» называется. Там бригада специальная саман лепит — каждый год до двадцати хат из глины строят. У нас не получится...
И отвыкли, и мастеров нет.
В поездках по приднепровским селам я приглядывался к сохранившимся постройкам из глины. Какую же изобретательность и сметку проявляли степняки! Хаты из самана, или лемпача, вальков (сырой саман овальной формы), которые для прочности укладывались наклонно, хаты-мазанки (каркас из лозы набивали глиной вперемешку с соломой и навозом), глинобитные и глинолитые дома. В Шульговке, в окрестностях которой было много лозы и камыша, строили в основном хаты-мазанки. Я расспрашивал о местных традициях жилищного строительства деда, бабу Тетяну, других шульговцев, с кем завязывалось даже краткое знакомство. И хотя многие говорили о прошлом, но оно не казалось недоступно-далеким, размытым — все охотно и подробно рассказывали, как строить хаты-мазанки.
«Зробы хату з лободы, а в чужую не веды»,— говорили в селе. Построить свой дом и обнести его плетнем считалось делом чести каждого мужчины, который обзаводился семьей, своеобразным экзаменом его способностям и умению самостоятельно вести хозяйство. На участке сначала строили «халаш» — что-то вроде шалаша, где можно было укрыться от непогоды и спрятать инструмент. По периметру дома закапывали в землю большие и малые столбы — «сохи» и «подсошки», которые переплетали лозой. Когда каркас был готов, созывали родственников и соседей для первой мазки «под кулаки» — глину вперемешку с соломой забивали кулаками в плетень. Через неделю — вторая мазка. Она называлась «под пальцы» — глину, перемешанную с половой, вминали и разглаживали пальцами. Для третьей «гладкой» мазки в глину добавляли полову и кизяк. Была еще и четвертая мазка — «вихтювання».
Тряпкой-«вихтем» размывали стены, нанося на них аккуратным тонким слоем глину «серовку». Эту определенного сорта глину сначала мяли, как тесто, скатывали в шары, сушили, потом парили и трусили через сито. Побелку делали белой глиной. Каждый год она подновлялась. Страстная неделя перед Пасхой, когда хозяйки белили хаты, еще называлась «белой».
Наконец наступал черед крыши. Для нее заготовляли сухой, чистый тростник. Срезали его обычно серпами поздней осенью, зимой нередко косили по льду косами. Для четырехскатной («по круглом») крыши вязались снопы-«кулики». Много тонкостей должен был знать селянин, чтобы вышла надежная крыша: и как вязать снопы, и как ряд за рядом выкладывать, и как крепить покрытие.
Почти половина хат в Шульговке и ее окрестностях покрыта тростником. Но на многие гребни нахлобучены сейчас жестяные и шиферные «лодочки». От председателя я узнал, что горожане покупают под дачи дома в селе и торопятся их переделать на свой лад. Да и многие шульговцы не отстают от моды — затаскивают на осевшие коньки шиферные листы, латают их рубероидом, клеенкой, полиэтиленом. Тем более что тростника по плавневым низинам становится все меньше — воду съел канал, а ржаную солому, которая раньше тоже шла на кровлю, комбайны перемалывают чуть ли не в пыль. Через два-три десятка лет никто в селе, пожалуй, и не вспомнит про глиняные хаты, тростниковые покрытия. Жаль, если это произойдет. Стоит, право, стоит протоптать тропинку в прошлое, чтобы разрешить многие наши проблемы.
Мысль эта цепко сидела во мне, и я постоянно находил ей подтверждение, знакомясь с шульговскими мастерами — теми, кто на виду, «в почете», и просто охочими до старых ремесел трудягами-умельцами. Нет, Станислав Поликарпович, есть еще в Шульговке люди, которые знают, как подковать коня, слепить хату-мазанку, наладить производство лемпача, покрыть тростником крышу, построить ветряк, вырыть колодец, а из соломы сплести брыль.
Почти в центре Шульговки живет бывший учитель физики Григорий Поликарпович Семенча. Подходишь к его двору в пасмурный день, и кажется, что из-за туч выкатывается солнце: над железными узорчатыми воротами всплескиваются маленькие разноцветные радуги, за ними приветливо белеет большая хата, к которой прилепилось ажурное голубое крыльцо. Взгляд скользит по зеленому двору и упирается в железную трубу... выше, еще выше — над трубой, примерно на десятиметровой высоте, застыли три серых жестяных крыла. Сооружение заметно издалека, поэтому шульговцы обычно очень коротко объясняют гостям дорогу к дому Семенчи: «Держите курс на ветряк». Да, труба и крылья над ней не что иное, как ветровой двигатель. Учитель соорудил его еще в шестидесятых годах. Двадцать лет ветер исправно помогал ему в хозяйстве.
Когда бы я ни пришел к Григорию Поликарповичу, он всегда за работой — что-то строгает, подбивает, подкручивает, подкрашивает. И всегда с сожалением отрывается от дела для досужего разговора.
— Не привык я сложа руки жить,— отвечает учитель на мою похвалу его хозяйственной сметке.— Раньше наш дом тут неподалеку на хуторах стоял. Место то называлось сначала Гнои, потом Зеленая диброва — добротно, вольно жили. Там я и построил свой первый ветряк. Было мне тогда тринадцать лет. Конечно, дед помогал и советами, и материалом. Ветрячок вышел небольшой, высотой, может, метра три, но крылами махал так, как надо. Я там еще передачу придумал, которая трусила решета — в одну сторону высевки сыпались, в другую мука. Мимо нашей хаты проходила большая дорога, и люди заглядывали в ветряк, как сороки в маслак. А времена, сам знаешь, тогда были скаженные — ветряки уничтожали по всей округе. Мой бы тоже на дрова пошел, кто только не грозился его снести, но директор школы специально в район звонил — отстоял ветрячок. Тогда ж ведь тоже были и люди, и нелюди. До самой войны жернова крутились...
В 1788 году русский академик В. Зуев издал «Путешественные записки от С.-Петербурга до Херсона». В них он подробно описывает ветряные мельницы в окрестностях Шульговки, которые «по способности своей и уютности достойны примечания». На Украине ветряки начали строить в начале восемнадцатого века. Были они самых различных конструкций: двухъярусные, деревянные, каменные, подвижные и стационарные, с разным количеством крыльев и устройством железных механизмов. Использовали ветряные мельницы не только для помола — с помощью ветра очищали крупы, приготовляли масло, добывали воду. Наверное, ветрякам (или, скажем, ветровым установкам) нашлась бы работа и в современном селе. Григорий Поликарпович на прощание нарисовал мне в блокнот чертежик своего первого ветрячка и сказал: «Вот только на бумаге и остался. Где же еще? Ни одного в районе не сохранилось. Везде фазы — рукам, может, легче, а голове забот прибавилось».
Как-то собрался я в село Гречино. Там живет дочь бабы Тетяны — Саня. Фамилия ее по мужу — Перетятько. Так совпало, что баба Тетяна носит ту же фамилию. Кстати, в бумагах деда я нашел листок, на котором он выписал некоторые шульговские фамилии. Напротив каждой — уличные прозвища. Кого только нет в том списке: Сторчоус, Подвечеря, Харман, Кабанец, Погорелый, Солодкий, Цыбульник, Царь, Попик. Нашел я там и прозвище Кызь, которое стояло рядом с фамилией Перетятько. Такой вот корешок вьется от первого шульговского поселенца...
Добирался я, значит, в Гречино на попутной машине и по дороге задремал, проскочил поворот на большак, который вел ко двору Перетятько. Километра три пришлось возвращаться пешком. Шагал вдоль посадок, за которыми мелькали окруженные плетнями хаты. Впереди показался животноводческий комплекс. Выглядел он серо и уныло — такое впечатление издалека, будто бетонной плитой придавили степь, и она замерла под ее непомерной тяжестью.
Старался не смотреть вперед — следил за неровностями грунтовки, а когда все-таки поднял голову, то увидел рядом с комплексом на краю асфальтового пятачка светлый деревянный теремок. На добротном срубе стоял домик, украшенный по углам волнистой резьбой. Сооружение венчала фигурная крыша, на фронтончиках которой были вырезаны чаши и глечики. Над коньками торчали унизанные деревянными шарами шпили. К теремку подошла женщина с ведром, открыла дверцу — звякнула цепь, скрипнул ворот. Я, конечно, задержался возле необычного колодца. С разных сторон к нему подступался — отовсюду он был красив, веселил взгляд. Минут через двадцать познакомился с заведующим комплексом Иваном Ивановичем Шишацким, по задумке которого, как оказалось, и был построен этот теремок над колодцем. Поинтересовался, как родилась мысль «украсить» воду. — Знаешь, как надо жить? — неожиданно спросил Иван Иванович, словно и не собирался мне отвечать.— На одном колодце я встретил такую надпись: «Живеш на свете, робы людям добро, пей холодную воду и не крадь ведро». Вот так. Все просто. Еще красоту твори, если можешь. Раньше хаты у нас украшали росписями, печи, сундуки размалевывали. Каждая хозяйка художником была, свой узор имела. А сейчас все, как у всех, все одинаково. Вода и та в кранах у всех одинаковая — с хлоркой. До знаменитой Петриковки у нас и десяти километров не будет. Так там те узоры только на фабричных блюдах остались. А по улицам, по дворам и хатам все та же одинаковость.
Каждая встреча на извилистых шульговских проселках, давая ответы на мои вопросы, рождала новые...
Однажды в знойный полуденный час попал я на улицу Веселую, которая от центра Шульговки ныряет в прохладу верб и кленов. Попал не случайно. Как-то нашел я в клуне у бабы Тетяны клубок соломенной плетенки. Размотал его, показал хозяйке — оказалось, косу сплел мой прадед Овсей Швачка, который на старости лет увлекся плетением брылей. Баба Тетяна подсказала, что на улице Веселой и теперь живет мастер-брыляр Иван Денисович Зуб.
Узнав, зачем я пришел, хозяин досадливо махнул рукой: «Это же несерьезное дело, это ж я так, для себя». Но вот я попросил показать брыль. Иван Денисович вздохнул, грустно посмотрел на меня синими глазами и вынес из соседней комнаты соломенную шляпу с широкими полями. Занавеска, которая прикрывала вход в комнату, была чуть отодвинута, и я увидел на шкафу целую стопку брылей. Потом мастер показал необычную шляпу без наголовка — широкий конус, от которого с внутренней стороны отходило несколько соломинок. С помощью соломенного ремешка, укрепленного на них, шляпа держалась на голове. Немного погодя на столе появился картуз с широким козырьком. Естественно, он тоже был выплетен из соломы, даже «пуговички» по краям ремешка были соломенные.
— Я в детстве допомогал старшим овец пасти,— наконец разговорился мастер.— Чабан один у нас был — его брыли вся Шульговка носила. Он сидит, плетет, а я смотрю и соломинку туда-сюда карначую. Так и выучился. Теперь на пенсии забава рукам и голове всегда есть. С материалом, конечно, бывает трудновато, у меня ведь своей нивки нет. В прошлом году у соседа ведро пшеницы на сноп околота выменял. Не знаю, как в этом получится. На брыль обычно уходит дня два — больше пятнадцати часов, если бесперестанку работать...
Мы говорили с мастером о том, что ныне ремесло это почти забыто, а раньше жило во многих южных селах. Брыли плели из стеблей спелой, немного влажной ржи. Плели «в зубцы» и «гладко», с разными узорами. Случалось, из соломы делали и короба для зерна, муки.
Мог бы старый «соломенный» промысел возродиться в Шульговке и окрестных селах? Обычно подобные вопросы мы адресуем представителям власти. Спрашиваем, уже заранее настроенные на то, что только их циркуляры и распоряжения могут дать ход делу. А мастера? До сих пор смутно на душе от слов, брошенных мне на прощание Иваном Денисовичем.
— Переколотил ты меня своим приездом, переколотил. Жил я себе тихо, без плескоты, никто ко мне не чеплялся — оно и легше.
Было ли это неверие в то, что можно возродить старинные ремесла на селе, только неверием Ивана Денисовича? Или так думают многие мастера, наученные горьким опытом жизни?
Вот так брожу по селу, езжу по окрестностям. Потом копаюсь в городских архивах, листаю старые книги — что-то уточняю, перепроверяю. И вновь возвращаюсь к шульговским белым хаткам. Возвращаюсь к бабе Тетяне. Нередко, когда день вроде закончен и мысли, не вылившиеся на бумагу, рассыпаются, блекнут, выпрашиваю у нее работу. Хозяйка обычно непонятливо подергивает плечами, мол, еще не загостился — отдыхай. Хожу я так за ней — высматриваю себе дело, наконец баба Тетяна не выдерживает:
— Полезли на горище, поможешь лантухи с кукурузой скинуть. Никак не доберусь до них.
Быстро подставляю лестницу-«драбыну» к торцу хаты, и мы по очереди залезаем на чердак. Баба Тетяна сразу молча схватывает туго набитый початками мешок и волокет его к выходу. Я нагибаюсь, встряхиваю мешок за углы.
— Самая я, сама, ты внизу приймай.
— Так тяжелый...
— Конешно, не легкий. Ну то давай присядемо. Ей-бо, шось перед очима — былк-блык, аж моторошно.
Под камышовой кровлей прохладно и сухо. Привыкнув к полутьме, рассматриваю разные старые предметы, хранящиеся за ненадобностью на чердаке: прясла, гребни, выдолбленные из вербы мерки, рассохшийся деревянный сундучок, лампадку. Баба Тетяна задирает голову, смотрит на стропила и вздыхает:
— А кроквы ще ничого — держатся. Абы соломки наверх потрусить, той добре...
В чердачный проем видно далеко: огород переходит в баштан, за ним — кукуруза и подсолнухи, — дальше — еще баштан и еще подсолнухи, потом — сады, между которыми белеют хатки, над их крышами торчат островерхие тополя, колодцы-журавли, столбы, а дальше... дальше золотится и поднимается, все закругляясь и закругляясь, небо. Станет ли эта земля когда-нибудь моей?









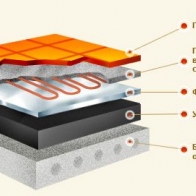

 Противовирусные препараты: за и против
Противовирусные препараты: за и против Добро пожаловать в Армению. Знакомство с Арменией
Добро пожаловать в Армению. Знакомство с Арменией Крыша из сэндвич панелей для индивидуального строительства
Крыша из сэндвич панелей для индивидуального строительства Возможно ли отменить договор купли-продажи квартиры, если он был уже подписан
Возможно ли отменить договор купли-продажи квартиры, если он был уже подписан Как выбрать блеск для губ
Как выбрать блеск для губ Чего боятся мужчины
Чего боятся мужчины Как побороть страх перед неизвестностью
Как побороть страх перед неизвестностью Газон на участке своими руками
Газон на участке своими руками Как правильно стирать шторы
Как правильно стирать шторы Как просто бросить курить
Как просто бросить курить