
Сан-Франциско я увидел с океана таким, каким он мог явиться только в радужном сне. Над раскинувшимся на холмах городом бело-золотой акрополь поднимался в голубизну тихоокеанского неба и являл собою картину средневековья, которого у Сан-Франциско быть не могло... Наше судно уже проходило Золотые Ворота, и за заливом он показал себя во всей своей самоуверенности, будто не хотел развеять иллюзии чужестранцев, которые внушала им долгие годы Америка. В бледном свете просыпающегося дня небоскребы для кого-то выглядели геологическими образованиями, для кого-то древними символами; для меня же они сливались в гигантский орган, на оловянных трубах которого поблескивало солнце. Неслышимая, а каким-то странным образом осязаемая гармония заполняла все пространство утра.
Пугало не величие их, а отчужденность...
Не знаю, как бывало с другими, лично я в первые часы в Америке чувствовал себя существом из иного измерения. Мне казалось, надо заново учиться ходить, смотреть, реагировать. —. И даже тогда, когда в деловом центре Сан-Франциско, на Маркет-стрит, в двух шагах от порта и Бей-Бридж — оклендского моста, тревога затеряться в скопище небоскребов улеглась и я силился хоть как-то быть похожим на уверенного человека, ничего из этого не выходило. В какой-то момент я попытался взглянуть на себя со стороны и обнаружил: мне не хватает чего-то такого, что давно было частью меня самого. И вспомнил. В той, другой жизни у меня был портфель. Его украли у меня накануне отъезда из Москвы.
Понимая, что мне не хватало привычной тяжести в руке, я тут же отправился искать себе портфель.
Тогда мне и в голову не приходило, что в Америке, где есть все, трудно будет найти двойника своего видавшего виды, заслуженного портфеля — портфеля из отличной лошадиной кожи, добротно простроченного и даже отдаленно не похожего на саквояж или на какую-нибудь кондукторскую сумку.
Но куда больше я не подозревал, что у меня появилась цель, и эта цель поведет меня по незнакомому городу, и я уже не смогу остановиться, забуду обо всем на свете, а когда опомнюсь, обнаружу, что я прекрасно ориентируюсь и любому, кто после меня соберется в Сан-Франциско, могу с уверенностью сказать: город компактный, он расположен на сорока восьми холмах (эту цифру мне подскажут позже), отлично распланирован — все его улицы параллельны, а если они показались мне расходящимися, то это оттого, что я их видел с океана. Только одна, главная улица — Маркет пересекает все их по диагонали. Улиц такое множество, и они так взбираются с холма на холм, что не покидает ощущение лабиринта, пока ты не выскочишь к океану...
Сан-Франциско — город особняков, белых, двухэтажных, викторианской архитектуры. Дома вроде бы все на одно лицо, но нет ни одного, который был бы похож на другой: каждый отмечен чем-то своим; все достопримечательности города — сам город, и если ты поверишь этому и доверишься ему, он станет помогать тебе, ты не заметишь, как постепенно оживут и твои собственные сведения о нем, вдруг поймешь, что Сан-Франциско, основанному в конце XVIII века, не двести, а всего лишь девяносто лет, — того города просто не существует, он полностью был разрушен землетрясением 1906 года, разве что сохранилась церковь святого Франциска Ассизского — первое строение, датированное 1776 годом.

Город построен заново, и его домам, прилепленным друг к другу и так похожим на театральные декорации, теперь словно бы не грозит землетрясение — они легкие, как бумага. Глядишь на них и отмечаешь про себя: образ жизни американцев — все тот же дом, гараж, кусты цветов, газоны и порядок на подступах ко всему, что «мое». А небоскребы с банками, страховыми компаниями и прочими учреждениями — мощь Америки, которая многим дает возможность жить в рассрочку в этой ростовщической, в самом полезном смысле этого слова, стране...
Как и всякий приезжий, где бы меня ни носило, я снова уже мне лица: чистильщика обуви, который каждый раз, когда я проходил мимо, оглядев мои не терявшие блеска на этих чисто вымытых тротуарах башмаки, отпускал очередную реплику и разводил руками; попрошайку с размалеванным лицом, который остановил меня, просил денег, и я удачно нашелся, сказав, что если бы они у меня были, я бы ехал, а не шел. Он хорошо расхохотался, а потом, при встречах, приветствовал меня, как свой своего...
Думаю, я и сам немало примелькался на Маркет-стрит — и особенно уличному музыканту, безмерно полному мулату, немолодому и негрустному человеку. Обычно он сидел на углу Пауэлл и Маркет, около него собиралась толпа из тех, кто ожидал «кэйбл-карс» — кабельные трамвайчики, такие непохожие на все трамвайчики всего мира... По утрам я еще издали слышал его гитару. Она звучала в той особой манере импровизации, которую породила негритянская музыка. Неслучайно она всегда ассоциировалась у меня с коричневым цветом... А в мулате мне нравилось то, с каким чувством достоинства он сидел на голом тротуаре, сидел, словно спиной ко всему остальному миру, живущему без музыки, и играл с удовольствием для себя и тех прохожих, кто этого хотел... Хочешь — подходи, хочешь — проходи мимо. И я подошел. Послушал и, опустив в футляр его гитары доллар, осмелел, напел ему несколько тактов из фортепианной пьесы Брубека. «О... Дейв Брубек!» — обрадовался он и тут же принялся за обработку услышанной темы...
Чего и говорить, приятно было найти общий язык с человеком. И не где-нибудь за праздничным столом, а на тротуаре Сан-Франциско.
В какой-то из дней наступило полное отупение. Ноги мои шли, но глаза ничего не воспринимали. Все, что я видел, было слишком на поверхности, слишком слепило, и потому уже трудно было чего-либо разглядеть. Скучно стало от окружающей роскоши. Одним словом, мой мозг требовал иного источника информации. К тому же радость одиночества иссякла вместе с неудачными поисками портфеля. И вот тогда-то я воспользовался номером телефона, которым меня снабдили мои московские друзья.
Я позвонил человеку по имени Уолтер, и мы, по его просьбе, встретились на Эмбаркадеро, около итальянской пиццерии — объяснил он выбор места свидания возможностью там припарковать свою машину. Лучшего места он и придумать не мог, ибо к этой многорядовой улице, называемой причалом и опоясывающей залив, приставали корабли. Там же стояло и судно, на котором я пришел в Сан-Франциско.
Уолтер Орлофф был красивым, усатым, не потерявшим своей осанки мужчиной. Русский эмигрант графского происхождения, майор ВВС Соединенных Штатов в отставке, он очень смешно рассказывал о своем детстве в Харбине, называл себя «хулиганчиком», оттого как часто менял гимназии и лицеи... Женился поздно. На москвичке. Где-то в начале семидесятых. Когла в Москве он познакомился со своим будущим тестем, выяснилось, что тесть был тем самым пограничником, который охранял именно тот участок погранзаставы, откуда шестилетний Уолтер с родителями переходил границу Маньчжурии. «Я слышал, — рассказывал тесть за праздничным столом, — я слышал залпы и выстрелы и говорил своим ребятам: не стреляйте, это наши, хорошие люди».
Так ли было на самом деле или нет, но из рассказа Уолтера выходило, что и он, и его тесть очень хотели, чтобы было так.
Мы дошли до Маркет-стрит — она упиралась в Эмбаркадеро — и, прежде чем свернуть на главную улицу, Уолтер спросил:
— Может, есть у вас какие проблемы?
— Есть, — сказал я, — мне надо купить портфель.
— Ну, это просто... Как вам Сан-Франциско?
— Мне он очень нравится. Только отчего здесь такое смешение разнородных лиц?
— Сан-Франциско приветливый город... — как-то очень тепло сказал Уолтер. — Здесь собрался цвет русской эмиграции.
И тогда я спросил его:
— Почему именно здесь, в Сан-Франциско? И он ответил мне:
— Мы бродили по свету, а Сан-Франциско стоял на берегу океана...

В первом же магазине, где изобилие портфелей потрясало, Уолтер торжествующе взглянул на меня, но по выражению моего лица сразу понял, что найти портфель для меня задача не из легких, если вообще разрешимая.
— Вы можете заказать себе портфель... — растерянно сказал он. — Но его стоимость, как и все, что делается на вкус одиночки, будет гораздо больше стоимости автомобиля... В Америке, если есть у тебя возможность, ты можешь позволить себе вес... К примеру, попросить в ресторане ухо слона. И у тебя будет ухо слона. Но в его стоимость войдут расходы охотничьей экспедиции, налоги, взятка смотрителю африканского парка, а также, чтобы ухо попало на твой стол свежим, еще и стоимость перелета на сверхскоростном самолете...
Все это Уолтер выложил с уверенностью человека, который открывал глаза на Америку собеседнику, прибывшему с противоположного берега океана. А тем временем, слушая его, я думал совсем о другом, вспоминал, как оказался на окраине Сан-Франциско, искал специализированный магазин кожаных изделий... Пешеходная дорожка кончилась, магазина все еще нет, а я все иду, сторонюсь потока несущихся автомобилей. Так и прошел с километр, и когда, наконец, замаячила впереди связка эстакады, повернул обратно.
Когда я рассказал об этом Уолтеру, он схватился за голову:
— Как! — вскрикнул он, — вас же могли оштрафовать на две тысячи долларов... Вы же шли там, где не положено!..
Мне и самому интуиция подсказывала, что в Америке на каждом шагу подкарауливает тебя закон, невидимый до тех пор, пока не преступишь его... Видимо, я все еще смотрел на Америку из окна своего давно снесенного дома на Арбате — на Собачьей Площадке. Он соседствовал с резиденцией американского посла, и каждый год, в начале июля, в День независимости Соединенных Штатов, когда в Спасо-Хаус приглашался весь дипломатический корпус Москвы, я наблюдал Америку на зеленой лужайке из окна нашего двухэтажного деревянного домика. И таким образом я долгие годы видел Америку, которую отделял от меня забор с постовым милиционером, охранявшим американского посла с тыльной стороны его резиденции.
Нет. Сознание того, что я в Америке, было сильнее всего того, что меня окружало. Может, потому, когда Уолтер предложил покататься на «кэйбл-каре» — кабельном трамвайчике, это не произвело на меня должного впечатления. Все, что было любопытного в них, я знал. Часто останавливался на Пауэлл, наблюдал вместе с толпой туристов и зевак, как трамвайчик подходит к последней остановке, заходит на крутящуюся деревянную платформу, выходят двое обслуживающих — кондуктор и еще кто-то и, налегая на борт, поворачивают его в обратный путь. Прицепляют трамвай к кабелю, который находится в канавке между рельсами. И поехали! Кому места не хватает, устраивается на подножке.
Уолтер очень агитировал меня сесть на трамвай, а я тупо не реагировал — хотелось походить наедине с человеком вне толпы. Он говорил, что другие прилетают в Сан-Франциско только для того, чтобы покататься на них и тут же улететь обратно, и что трамвайчики эти выглядят такими, какими появились они на свет в прошлом столетии. Только вот керосиновую лампу заменили электрической...
Я так и не понял, грустил ли Уолтер по керосиновой лампе или по чему-то другому, но, если и появился у меня интерес к этим очаровательным трамвайчикам, то это, скорее, произошло только после того, как Уолтер рассказал мне историю нимфоманки.
История эта, по американским понятиям, в общем-то, была нормальная, по нашим же могла показаться неправдоподобной. Сводилась она к тому, что вот так же на платформу заехал трамвайчик, и когда его подтолкнули, чтобы повернуть, он слегка задел молодую женщину. Трамвайщики аккуратно зафиксировали этот факт и забыли о нем. А потерпевшая сообразила — на этом можно сделать деньги, и подала в суд. Она заявила, что после того, как она столкнулась с трамвайчиком, что-то произошло с ней, она стала проституткой. Проверили запись. Действительно, стукнули ее такого-то числа. У нее был хороший адвокат. Он и доказал городским властям, что его подзащитная до этой травмы была порядочной женщиной. И город заплатил ей огромную сумму.
Так ли или немного веселее рассказывал об этом Уолтер, это неважно, но я воспрял духом и почти вскричал:
— Пошли! Покатаемся! А то какой же Сан-Франциско без трамвайчиков...
 Когда мы возвращались на Эмбаркадеро к стоянке машин, Уолтер спросил меня:
Когда мы возвращались на Эмбаркадеро к стоянке машин, Уолтер спросил меня:
— Ну, как «кэйбл-кар»?
— Это было путешествие в ликующее детство... — сказал я тогда, больше для удовольствия Уолтера. И себе мысленно: — ...которого у меня не было.
В тот день Уолтер повозил меня, показал Сан-Франциско, таким, каким он любил его, — расцвеченным китайской пестротой. Поводил по чайнатауну — самому китайскому из всех китайских кварталов Америки. И объяснил этот феномен тем, что между Китаем и Сан-Франциско — всего один океан. Еще в прошлом веке из безземельного, голодного Китая привозили сюда китайских кули — бурно развивающийся Дальний Запад нуждался в дешевой рабочей силе, и первые из кули строили Трансконтинентальную железную дорогу. В Китае долгое время ходили легенды о Сан-Франциско, где есть для всех работа и еда. Те, кто выживали здесь, открывали прачечные и мелкие лавки, и уже для нового дешевого труда сами выписывали из Китая родственников в немалом количестве. Они жили тесно и кучно, оседали в китайском квартале, который с годами богател и получил название «Позолоченного гетто»...
Из чайнатауна мы вырвались, словно из объятия пышного разноцветий, обилия яств, а через некоторое время уже спускались по Ломбарду — по самой крученой улице мира, напоминающей винтовую лестницу; неслись дальше по просторной улице, где растут пальмы и чувствуется близость океана, пока, наконец, в состоянии, похожем на эфирное опьянение, не оказались на Пике двойняшек.
Туман скрывал небоскребы, и известковая белизна Сан-Франциско, под палящим солнцем, отсюда, с самого высокого холма, снова напоминала средневековый город. Но теперь уже где-нибудь в Андалусии.
К концу дня Уолтер подвез меня к Парку Золотых Ворот и, высаживая, сообщил, что сегодня здесь поет Пласидо Доминго. Поет бесплатно. Он объяснил, как мне найти гигантскую раковину концертной сцены и, наслышавшись о моих способностях делать большие пешие переходы, покинул меня. Правда, предварительно договорившись о следующей нашей встрече.
Это был не парк, а Территория. Она тянулась от кромки океана в глубь города на сорок восемь кварталов — это я обнаружил на своей карте, когда стал с первых же шагов блуждать. И хотя казалось, что Уолтер высадил меня где-то поблизости, я очутился в какой-то бесконечности — то натыкался на колоссальный аквариум с акулами, то выходил к озерам или к Дворцу цветов... Одним словом, пока я блуждал, наступила темнота, и надежды на то, чтобы успеть хотя бы на финал концерта, уже не оставалось. Я даже согласен был лишь на одну стоящую ноту, когда вдруг, словно в лесу, услышал до слез знакомый голос и, идя на него, вышел к арене с тысячами людских голов.
Доминго пел еще целый час. Он пел итальянцев, испанцев и даже американцев. Это был Богом подаренный вечер...
Портфель я все-таки нашел. Он ждал меня недалеко от тех мест, где я все эти дни часто бывал, — на безлюдной улице, в безлюдном фирменном магазине. Я вошел, оглянулся. Никого. Прошелся по длинному ряду, уставленному собратьями моего украденного портфеля, остановился перед одним. Он стоял в единственном экземпляре, правда, отвечал не всем моим требованиям, но выглядел достойным и не собирался заслонять своим видом своего будущего хозяина. Не успел я дотронуться до него, как около меня возникла девушка.
— Добрый день, сэр. Вам приглянулся этот? — поинтересовалась она.
Я справился о цене и, услышав стоимость целой лошади, сказал:
— Туморроу... — попытался я с честью выйти из игры, забыв, что американцы — люди, мыслящие конкретно.
Мне бы следовало сказать: «Я подумаю» или «Надо посоветоваться», — и это было бы моим правом. Но, употребив слово «завтра», я сам того не подозревая, вошел с фирмой в отношения. Это, в свою очередь, налагало ответственность на фирму, поскольку товар был штучный, его следовало оградить от посягательства других лиц.
Но всего этого я еще не понимал, когда продавщица достала две карточки — в одну попросила меня внести свое имя — эту она прикрепила к портфелю, в другую занесла свое, потом подошла к счетной машине, прибавила к стоимости 8,5 процента муниципального налога, вывела общую сумму — «тотал» — и все это внесла в карточку со своим именем и, протянув ее мне, спросила:
— О'кей?..
А потом, довольная моим неуверенным «О'кей», улыбнулась в надежде па приятное завершение нашей завтрашней встречи...
На другой день, при встрече с Уолтером, я первым делом сообщил ему все о портфеле, но, видя его смущение, вызванное стоимостью, сказал:
— Если она не обрадуется мне, то весь смысл этого мероприятия сведется к нулю, и тогда я со спокойной совестью могу отказаться от дорогостоящего предмета...
Но... Обрадовалась. Бросилась ко мне:
— Хэллоу, — с неподдельным восторгом встретила она меня и даже не заметила важного и респектабельного Уолтера...
Я купил портфель. И мы тут же отправились в чайнатаун, в десяти минутах ходьбы, обмывать покупку.
В небольшом китайском ресторанчике мы съели и выпили ровно столько, чтобы нас хватило и на Рыбацкие причалы. Туда я уже ходил и таращил глаза на лотки и подносы, на которых в белой стружке льда красиво покоились крабы, креветки и всякая рыба только что с моря.
Мы устроились на открытом воздухе, за столиком прямо с видом на остров Алкатрас, где когда-то сидел в тюрьме известный чикагский гангстер Аль Капоне... Уолтер взял себе рыбу, выложенную до блеска отмытыми овощами, и к ней белое вино, а я ограничился джин-тоником. Как же хорошо в этот вечер говорилось ни о чем и обо всем, что никогда не запоминается, — и о том, что хорошо жить в Сан-Франциско и грустить по родным берегам...
К концу вечера, навеселе, задыхаясь от беспечности, мы уже наряжали Сан-Франциско во фрак.
— А Париж во что?
— В жабо.
— А Филадельфию?
— Там я не бывал. — И, завышая свои возможности, добавил: — Еще не бывал. Но Филадельфию представляю в пудреном парике и треуголке. Или в твидовом пиджаке с жилетом...
Обойдя навеселе несколько именитых городов — Москву и Санкт-Петербург мы не трогали, как нечто очень свое, — мы снова вернулись в Сан-Франциско и пришли к обоюдному мнению, что фрак ему будет очень к лицу. Он уверенный город. Он никого и ничего не боится, разве что землетрясения. Он благоволит к людям. Может приласкать, приютить кого угодно: и белых, и черных, и желтых, и голубых... А если ты ни тот, ни другой, ни третий, то и тебя может принять.






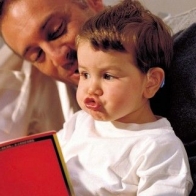




 Противовирусные препараты: за и против
Противовирусные препараты: за и против Добро пожаловать в Армению. Знакомство с Арменией
Добро пожаловать в Армению. Знакомство с Арменией Крыша из сэндвич панелей для индивидуального строительства
Крыша из сэндвич панелей для индивидуального строительства Возможно ли отменить договор купли-продажи квартиры, если он был уже подписан
Возможно ли отменить договор купли-продажи квартиры, если он был уже подписан Как выбрать блеск для губ
Как выбрать блеск для губ Чего боятся мужчины
Чего боятся мужчины Как побороть страх перед неизвестностью
Как побороть страх перед неизвестностью Газон на участке своими руками
Газон на участке своими руками Как правильно стирать шторы
Как правильно стирать шторы Как просто бросить курить
Как просто бросить курить

 - 3813 -
- 3813 -

