
На протяжении нынешнего века слово «немец» в России и некоторых других европейских странах вызывало реакцию от весьма положительной (самое начало и конец века) до крайне отрицательной (середина века). Но никто в Европе, наверное, так не соединен общностью судьбы, как россияне и немцы, часто даже не подозревая об этом. Эта соединенность парадоксальным образом проявилась даже в наиболее драматические для нас годы, когда мы готовились к войне и воевали друг с другом.
Внутренний стержень
Я всегда восхищался нордической невозмутимостью своего друга Фрица Венглера. Лет десять тому назад нам довелось вместе слетать в Сибирь.
Мороз стоял под сорок, в Иркутске все трещало и скрипело, и я думал лишь о том, как после короткой прогулки и захода в центральный универмаг поскорее вернуться в гостиницу «Ангара» и любым способом согреться. На площади к нам подскочил плюгавый фарцовщик в вишневых полусапожках и, безбожно искажая немецкий язык, предложил:
— Феркауфен битте дубленка, — схватив Венглера за рукав, он назвал цену, — драй гундерт рубль.
Венглер вопросительно посмотрел на меня. Я сказал фарцовщику:
— Попрошу вас убраться, мы ничего не продаем.
Тот, однако, не унимался:
— Битте феркауфен дубленка.
— Что он желает? — спросил Фриц.
— Он желает, чтобы ты продал ему свое меховое пальто.
— Но я не могу его продать, — Фриц растерянно развел руками.
Дубленка была казенной, ее, как и меховую шапку, набросил на Фрица прямо на аэродроме мой коллега, тогдашний корреспондент «Известий» в Иркутске Леонид Капелюшный — ему передали из Москвы, что гость из ГДР фактически раздет. Фриц, очевидно, считал, что Сибирь настолько согрета энтузиазмом масс, что прилетел в демисезонном пальтишке на рыбьем меху и в берете, который аккуратно повторял форму его большой головы.
Сибирь представлялась Венглеру чем-то вроде охваченного всенародным порывом преобразований седьмого материка (строили Байкало-Амурскую магистраль, смысл которой так и остался загадкой XX века). Его восхищало все: даже иркутский фарцовщик, предложивший за смехотворную цену раздеться на сорокаградусном морозе. Размах чувствовался во всем...
Фриц Венглер представляется мне типичным немцем. Берлинец, смутно помнивший войну, он знает гречневую кашу лишь по маю и лету 45-го года и к нашему времени забыл ее немецкое название. В раннем возрасте он воодушевился идеей социализма — немцы рано зажигаются общественными идеями, какими бы невероятными они ни казались, — и по заданию партии вел предвыборную пропаганду в Западной Германии, за что был посажен там в тюрьму. Отсидев, все свои силы посвятил строительству светлого будущего на Востоке Германии. Хороший журналист, лауреат всевозможных творческих премий ГДР, перед объединением страны он уже был заместителем главного редактора центральной газеты «Берлинер цайтунг».
В прошлом жестянщик, Фриц (уменьшительное от Фридрих) всюду возил с собой кое-какой инструмент. Когда в гостинице «Ангара», где мы поначалу обосновались, в обоих наших номерах вышли из строя унитазы, невозмутимый Фриц, закатав рукава, разложил инструмент и починил оба туалета. Бывают же дурацкие совпадения: в Братске, куда мы потом полетели, туалеты также были не в порядке. Не считая свою работу унизительной и меньше всего ожидая благодарности от администрации, он еще раз привел в порядок оба унитаза. Читатель не поверит — но и в гостинице поселка Листвянка на Байкале, куда нас забросила судьба, в обоих туалетах не работали бачки для слива воды. Фриц молча починил и их.
Говорят: два совпадения — это явление. Но Фриц жил по своим правилам. Даже если бы все гостиничные туалеты Советского Союза в один день оказались поломанными, он ни на миг не потерял бы веру в исторического победителя, светоча мира и прогресса для всех народов земли. Фриц во всем любил порядок.
Кажется, таких типичных немцев я больше не встречал — ни в России, ни в самой Германии, в которой проработал много лет в качестве корреспондента «Известий». Мы частенько виделись с Фрицем, и он всегда оставался верен себе. И остался самим собой после объединения Германии, которое, кстати, стало для него величайшей личной катастрофой, разломом в судьбе, если хотите, крушением мироздания.
Я далек от мысли иронизировать над ним. Мои симпатии к Фрицу остались прежними. Подчеркивая типичность Фрица, я хотел сказать, что любовь к порядку, организованность, верность себе пожалуй, внутренний стержень, важнейшее национальное качество немцев.
Эти качества немецкой натуры русскими были схвачены давно, при Петре Первом, до Петра отражены в литературе, хотя иногда и с легким — а то и не очень — оттенком иронии. Помните повесть Лескова «Железная воля» о молодом немце Гуго Карловиче Пекторалисе, который приехал в расхлябанную и невнятную Россию, противопоставив ей свой внутренний порядок и железную волю? Его борьба закончилась трагически: на масленицу он поспорил с батюшкой, что съест больше, чем тот, блинов, и, вопреки пословице «блин не клин, брюхо не расколет», умер от переедания прямо за столом. Ибо, «что русскому хорошо, то немцу — смерть».
 В той же повести приводятся слова русского генерала о немцах: «Какая беда, что они умно рассчитывают, а мы им такую глупость подведем, что они и рта разинуть не успеют, чтобы понять ее». Дескать, немцев мы лаптями закидаем, а их хваленая железная воля только до беды способна довести. В общем, нам свойственно отдельные недостатки россиян противопоставлять немецким достоинствам, и — естественно — идеализировать первые. Но это в прошлом. Недалеко от меня на берлинской Вальдоваллее проживал бывший начальник военной контрразведки ГДР, бывший советский разведчик, участвовавший в покушении на гитлеровского наместника в Минске Вильгельма Кубе (об этом фильм «Часы остановились в полночь»), кавалер восьми советских и бесчисленных гэдээровских орденов, генерал в отставке Карл Кляйнюнг. Низкорослый, крепкий, подвижный, с поредевшими седыми волосами и вздернутым, совершенно не арийским носом, — он тоже до конца остался верен себе: после объединения над его домиком еще долго развевался гэдээровский флаг. Исторически необходимое и неизбежное воссоединение Германии он, как и Фриц Венглер, воспринял почти как конец света. В переносном смысле конец этот наступил для многих в ГДР, для тех, кто поверил идее и готов был за нее стоять. Удивительное сочетание: идеализм и сугубая практичность — это тоже немцы.
В той же повести приводятся слова русского генерала о немцах: «Какая беда, что они умно рассчитывают, а мы им такую глупость подведем, что они и рта разинуть не успеют, чтобы понять ее». Дескать, немцев мы лаптями закидаем, а их хваленая железная воля только до беды способна довести. В общем, нам свойственно отдельные недостатки россиян противопоставлять немецким достоинствам, и — естественно — идеализировать первые. Но это в прошлом. Недалеко от меня на берлинской Вальдоваллее проживал бывший начальник военной контрразведки ГДР, бывший советский разведчик, участвовавший в покушении на гитлеровского наместника в Минске Вильгельма Кубе (об этом фильм «Часы остановились в полночь»), кавалер восьми советских и бесчисленных гэдээровских орденов, генерал в отставке Карл Кляйнюнг. Низкорослый, крепкий, подвижный, с поредевшими седыми волосами и вздернутым, совершенно не арийским носом, — он тоже до конца остался верен себе: после объединения над его домиком еще долго развевался гэдээровский флаг. Исторически необходимое и неизбежное воссоединение Германии он, как и Фриц Венглер, воспринял почти как конец света. В переносном смысле конец этот наступил для многих в ГДР, для тех, кто поверил идее и готов был за нее стоять. Удивительное сочетание: идеализм и сугубая практичность — это тоже немцы.
Злая шутка истории
На протяжении нынешнего века слово «немец» в России и некоторых других европейских странах вызывало полярную реакцию от весьма положительной (самое начало и конец века) до крайне отрицательной (середина века). Но никто в Европе, наверное, так не соединен общностью судьбы, как россияне и немцы, часто даже не подозревая об этом. Эта соединенность парадоксальным образом проявилась даже в наиболее драматические для нас годы, когда мы готовились к войне и воевали друг с другом.
Разве оба наших народа не стали жертвами тоталитарных систем?
Идеология сыграла с немцами и русскими злую шутку — развела на разные полюса и в то же время сблизила, сделав, если хотите, собратьями по несчастью. Вину за развязывание войны с фашистов не снять, Нюрнбергский процесс поставил в этом вопросе последнюю логическую точку. Но началась эта война намного раньше ее официального объявления: с величайших в истории репрессий — куда там средневековой инквизиции!
Сама судьба, кажется, распорядилась, чтобы я стал германистом. Я появился на свет в роддоме против Немецкого кладбища, учился в школе против Немецкого рынка, первой учительницей немецкого языка была Тамара Густавовна Шолле, прожил на бывшей Немецкой, ныне Бауманской, улице всю жизнь, в бывшей Немецкой слободе — куда дальше?
У нынешних поколений россиян складывалось разное представление о немцах. В детсадах мы разучивали стихотворение: «Юный Фриц, любимец мамин, в класс пришел сдавать экзамен. Задают ему вопрос: для чего фашисту нос? Чтоб вынюхивать измену и писать на всех донос — вот зачем фашисту нос...». А слово «фашист» было для нас практически синонимом слова «немец».
Помнящий послевоенные годы журналист рассказал мне, как в возрасте шести лет рядом с метро «Бауманская» он впервые увидел немцев. Запыхавшийся ровесник-сосед примчался с воплем: «Пленных немцев привезли!». Оба бросились на улицу и остановились перед забором, за которым люди в серой форме что-то копали.
— Где немцы? — спросил будущий журналист.
— Вот они, — ответил сосед.
— Какие же это немцы? — удивился наш герой. — Обыкновенные люди.
Его удивило, что у пленных не было ни клыков, ни рогов, ни когтей...
Тяжело перенесшие войну, мои родители не желали, чтобы я приводил домой немцев. Когда же ко мне в гости впервые пришел мой ровесник — гэдээровскии студент, они заперлись в другой комнате. Они медленно и мучительно привыкали к тому, что я нормально отношусь к представителям нации, принесшей столько несчастья нашей семье и стране в целом.
 И наконец — еще кое-что, что надо учитывать, размышляя о немецком характере. В западноберлинском районе Целендорф, в так называемом Берлинском центре документации, который принадлежал американцам, я оказался первым советским корреспондентом и журналистом вообще, которому американцы разрешили спуститься в подземный бункер. В этот бункер в конце войны свезли нацистские архивы и с тех пор никого не пускали. То, что я увидел, поразило меня. На полках покоились просто геологические пласты доносов. А спустя некоторое время меня поразили залежи доносов в архивах «штази» — службы госбезопасности ГДР. При Гитлере (потом при Ульбрихте и Хонеккере) общество просвечивалось насквозь: в «сплоченном» обществе никто никому не доверял. Армия доносчиков и единицы, буквально единицы тех, кто, подобно потерявшей на войне сына пожилой чете в романе Ганса Фаллады «Каждый умирает в одиночку», хоть как-то сопротивлялись режиму Гитлера. Но такие были. Родители рассказывали, что во время войны где-то на Бауманской упала немецкая бомба — и не разорвалась. Ее разрядили, обнаружив в ней песок и записку: «Не все немцы — нацисты». Скорее всего, это легенда, но всегда хотелось в нее верить.
И наконец — еще кое-что, что надо учитывать, размышляя о немецком характере. В западноберлинском районе Целендорф, в так называемом Берлинском центре документации, который принадлежал американцам, я оказался первым советским корреспондентом и журналистом вообще, которому американцы разрешили спуститься в подземный бункер. В этот бункер в конце войны свезли нацистские архивы и с тех пор никого не пускали. То, что я увидел, поразило меня. На полках покоились просто геологические пласты доносов. А спустя некоторое время меня поразили залежи доносов в архивах «штази» — службы госбезопасности ГДР. При Гитлере (потом при Ульбрихте и Хонеккере) общество просвечивалось насквозь: в «сплоченном» обществе никто никому не доверял. Армия доносчиков и единицы, буквально единицы тех, кто, подобно потерявшей на войне сына пожилой чете в романе Ганса Фаллады «Каждый умирает в одиночку», хоть как-то сопротивлялись режиму Гитлера. Но такие были. Родители рассказывали, что во время войны где-то на Бауманской упала немецкая бомба — и не разорвалась. Ее разрядили, обнаружив в ней песок и записку: «Не все немцы — нацисты». Скорее всего, это легенда, но всегда хотелось в нее верить.
А вообще немец от рождения — свидетель. Он замечает любые отклонения от правил, законов, норм; если на машине вы нарушили правила дорожного движения и надеетесь, что вас никто не заметил, вы ошибаетесь: вас видели, ваш номер и прочие сведения будут переданы в полицию через считанные минуты.
Воскресный обед
С фрау Докаль и ее семьей я познакомился много лет назад в Венгрии. Какое-то время писали друг другу: она мне — в Москву, я ей — в Западный Берлин. Потом, после очередной вспышки холодной войны, письма стали возвращаться назад, и мы потеряли друг друга. Спустя годы она разыскала меня в Восточном Берлине; в то время еще стояла Берлинская стена, и приехать ко мне в гости было сложно. Я же — как аккредитованный там корреспондент — свободно въезжал в Западный Берлин. Она пригласила на воскресенье, но, то ли оговорилась по телефону, то ли я ее неправильно понял, но приехал я к ней в субботу. Она меня не ждала. Поприветствовав и угостив чашечкой кофе, она сказала, что мечтает увидеть меня завтра.
На другой день она устроила обед, типичный для немцев среднего достатка. Сперва кофе с тортиком, потом тушеная говядина в коричневом соусе с картофелем, зеленой фасолью и вареной морковью. Плюс минеральная вода и сок на выбор. Поначалу такой обед воспринимаешь как проявление скаредности. Отнюдь, немцы в массе своей люди не жадные, в этом смысле их не сравнить, скажем, с соседями с запада и юга. В еде они умеренны, наверняка знают, сколько надо подать, чтобы все были сыты, но чтобы никто не переел.
В отличие от русской хозяйки, немецкая хозяйка не будет слишком ломать голову над тем, что подать, не станет готовить массу закусок, которые потом всей семьей подъедают целую неделю. Блюд немного. Для немки главное другое. Во-первых, красиво сервировать стол — поставить хорошую посуду, сложить салфетки в виде, скажем, бутона, украсить стол элегантным букетом цветов и свечами, короче, создать возвышенную, если хотите, праздничную атмосферу. Во-вторых, тщательно продумывается подбор гостей. Едва ли за одним столом окажутся одни хмурые молчуны или только неутомимые болтушки. Желательно, чтобы был интересный гость — профессор, писатель, говорящий по-немецки иностранец — причем это не «свадебный генерал», а человек, делающий обед интересным не только гастрономически.
Как-то фрау Докаль пригласила на свой обед Великого секретаря Великой ложи германских Одд-Феллоу (масонов) Петера Шмидта, грузного, величественного мужчину средних лет, умеющего красиво порассуждать на любую заданную тему. Что же касается находящейся в фешенебельном районе Груневальд ложи, куда однажды меня пригласили рассказать о России, главный смысл ее существования взаимопомощь и взаимовыручка; в Германии она воспринимается не так зловеще, как масонские ложи в других странах. Обед у фрау Докаль проходил благочинно, хотя для русского человека, возможно, чуть-чуть суховато. Мужчины пили газированную воду, женщины — кофе, разговор касался общих тем: Германия после объединения, Россия после распада СССР.
Я почувствовал, как фрау Докаль внутренне возликовала: вечер получился изысканным. Немцам среднего класса вообще нравится походить на аристократов. (Наверное, это неплохое качество, есть чему подражать.)
У Фрица Венглера вечера проходили примерно так же, но собирались, главным образом, журналисты и партийные работники, поэтому и разговор был сугубо профессиональный. Ужин начинали с супа. Как и большинство немцев, Фриц в еде любил экзотику или то, что ему казалось экзотикой. Его жена Дорис подавала, как правило, китайский суп — из акульих плавников или ласточкиных гнезд, но иногда и австралийский — из хвоста кенгуру. Все это продавалось в виде консервов.
 Кстати, о немецкой кухне. Ее не поставишь на видное место в Европе — тут царят французская, итальянская и венгерская. На их фоне немецкая выглядит блекло — нет, так сказать, гастрономических фейерверков. Подметил это еще в прошлом веке Тургенев: «Кому не известно, что такое немецкий обед? Водянистый суп с шишковатыми клецками и корицей, разварная говядина, сухая, как пробка, с приросшим белым жиром, осклизлым картофелем, пухлой свеклой и жеванным хреном, посинелый угорь с капорцами и уксусом, жареное с вареньем и неизбежная «Mehlspeise», нечто вроде пудинга с кисловатой красной подливкой; зато вино и пиво хоть куда!».
Кстати, о немецкой кухне. Ее не поставишь на видное место в Европе — тут царят французская, итальянская и венгерская. На их фоне немецкая выглядит блекло — нет, так сказать, гастрономических фейерверков. Подметил это еще в прошлом веке Тургенев: «Кому не известно, что такое немецкий обед? Водянистый суп с шишковатыми клецками и корицей, разварная говядина, сухая, как пробка, с приросшим белым жиром, осклизлым картофелем, пухлой свеклой и жеванным хреном, посинелый угорь с капорцами и уксусом, жареное с вареньем и неизбежная «Mehlspeise», нечто вроде пудинга с кисловатой красной подливкой; зато вино и пиво хоть куда!».
В центре Восточного Берлина на крохотной Вайзенштрассе есть ресторанчик, он считается самым старым в городе, таинственно уцелевшим в войне. Называется «Zur letzten Instanz» — «В последней инстанции»: по легенде, в средневековье приговоренных к виселице душегубов заводили туда и позволяли напоследок погулять вволю за счет казны. Говорят, здесь самая берлинская кухня в Берлине. Центральное блюдо, безусловно, «айсбайн» — «ледяная нога»: свиная рулька, которую варят часа четыре и подают на огромной тарелке с вареным картофелем, тушеной красной капустой и гороховой кашей, рядом с рулькой лоснится лужица горчицы. К айсбайну лучше всего подходит «Бокбир» — крепкое мартовское пиво, но годится и светлое «Берлинское». Подают еще в ресторане всевозможные зельцы, колбаски, жареную печенку, а также «оксеншванцзуппе» — типично немецкий суп из бычьих хвостов. Но при том, наверное, нигде в мире нет такого космополитического общепита, как в Германии, особенно в Западном Берлине. Каких только кухонь тут нет! Французская, итальянская, греческая, турецкая, русская, югославская, чешская, арабская, китайская, корейская... В жизнь немцев прочно вошли американский хот-дог, итальянская пицца, русские пельмени и солянка, турецкий денер-кебаб и многое другое. Мне же больше всего нравилась простонародная кухня — жареная колбаска с тушеной капустой или картофельным салатом, обжаренный, приконченный шматок свинины по-кассельски и кружка пива.
Что же касается пива... В Брюсселе мне сказали, что в маленькой Бельгии варят тысячу сортов (не знаю, сколько у нас в России — вводит в заблуждение то обстоятельство, что буквально во всех крупных, да и мелких городах продается разное пиво под одним названием — «Жигулевское») — сколько их в Германии? Две, три тысячи? Традиционное «Пильд», пшеничное; темное, мартовское «Бокбир»; безалкогольное и даже сладкое «Карамель». Пивная культура там очень высока. Вам никогда не подадут теплого пива, оно всегда одной температуры, около десяти градусов. Если бокал фирменный, скажем, «Варштайнер», в него никогда не нальют «Кульбмахер». Под бокал полагается картонная подставка, на ножку бокала надевается бумажная фирменная юбочка, чтобы стекающая пена не капала на скатерть. Если у вас кончилось пиво и вы не попросили счет, вам тут же принесут бокал того же самого.
Однажды мне привелось присутствовать при теоретическом споре между немцем и русским на тему, сочетается ли пиво с водкой. Немец утверждал: вполне. Русский категорически возражал: потом будет болеть голова.
— Да Бог с вами! — взмолился немецкий собеседник.
Зная привычки и немцев, и русских, я вмешался:
— Господа, вы говорите о совершенно разных вещах. Господин Майер имеет в виду рюмку водки и бокал доброго пива, а товарищ Николаев — бутылку водки и кружку пива, а может, и две.
Между тем считается, что немцы чуть ли не на первом месте среди пьющих наций Европы. Безусловно, они набирают очки за счет пива, которое буквально течет рекой.
Свое пиво немцы любят, но без лжепатриотизма. Однажды в Мюнхене, который славится баварским светлым, в ресторанчике я заказал самое лучшее, и официант, подумав, принес мне чешское «Пильзнер урквель» — «Пльзенский первоисточник», кстати, самое дорогое среди доступных сортов.
Пьют пиво из разной посуды: на севере, в том числе в Берлине, как правило, из тонких бокалов, в фольклорных ресторанах — из глазированных фарфоровых кружек, на юге — из стеклянных, в Мюнхене, в Баварии — из литровых «мас».
Доведенная до абсолюта
Наверное, нигде и никогда немцы и русские не жили так долго и близко вперемешку (поволжские немцы не в счет), как почти полвека в районе Карлсхорст на востоке Берлина. Тут в 45-м году в столовой инженерного училища была подписана капитуляция гитлеровской Германии (сейчас в этом здании музей, который наши называли Музеем капитуляции, немцы — Музеем истории Советской Армии). В последние десятилетия в Карлсхорсте стояла мотострелковая дивизия, которую, как капустные листья кочерыжку, окружали всевозможные вспомогательные службы; в них работали медсестры, продавцы, сантехники, парикмахерши, учителя, водители и прочий вспомогательный люд. Тут же за глухими заборами прятались сверхсекретные представительства КГБ и ГРУ; по мощеным улицам «Карловки» сновали прапорщики с умными, усталыми глазами легендарного майора Пронина. В общем, половина Карлхорста была глубоко засекречена.
В свободные от службы часы офицеры армии, разведки и контрразведки любили захаживать в почти деревенскую пивнушку «Бееренлаубе» — «Ягодную беседку» — там столики в теплое время года выносили в сад, под раскидистые деревья, а цена на пиво была смехотворно низкой. В 80-е годы пивнушкой управлял любезный, расторопный немец, которого русские звали «дядей Васей», что ему чрезвычайно нравилось; он любил лично обслужить офицеров в штатском и журналистов. Пивнушку прозвали «К дяде Васе». Она располагала к душевности и порывам откровенности.
И вдруг дядя Вася загадочно исчез. Вскоре выяснилось, что произошло с этим обаятельным человеком: он оказался агентом БНД — Федеральной службы разведки ФРГ — и под каждым столиком установил «клопов» — подслушивающие устройства. Больше о нем никто ничего не слыхал.
Этот случай насторожил и немцев, и русских, хотя, не думаю, чтобы их отношения напряглись. Вместе стояли в очередях, выходили на субботники, веселились на праздничных вечерах с пирожками, школьники обеих национальностей и полов вместе резвились в темном сквере, совершая типичные для переходного возраста ошибки... Это было удивительное, редкое в природе общежитие — представляете, в очередях чередовались русские и немецкие женщины — и никаких конфликтов.
Естественный поток интернациональной дружбы в Карлсхорсте добровольно направляла фрау Зимон Анна Георгиевна, супруга бывшего социал-демократа, несгибаемого Курта Эдуардовича, пенсионера, много сделавшего своими руками для облагораживания района. Это была (и есть) энергичная дама, учившаяся в России и говорящая по-русски без акцента, да еще и представляющаяся с отчеством, что многих вводило в заблуждение.
Почти за полвека немцы и русские в Карлсхорсте так прижились друг к другу, что воспринимали свое общежитие как нечто естественное. Во всяком случае, я не ощущал высокомерия ни с одной из сторон; самое большее — недовольный взгляд в очереди, женское фырканье по конкретному поводу или произнесенное беззлобным шепотом матерное слово. Не больше. Лишь после объединения Германии на Вальдоваллее, рядом с нацарапанным на асфальтовом отрезке тротуара по-русски признанием «Гюнтер + Галя = любовь» появился торопливо напыленный краской на стене призыв: «Russen raus» — «Русские, вон!», а у моего «Опеля» кто-то проколол шину и свернул зеркало бокового вида.
Мне импонирует немецкая сдержанность, умение владеть собой, по крайней мере, на людях. За годы работы в Германии я видел лишь одну ссору, кстати, в Карлсхорсте, когда в супермаркете обиженный пожилой джентльмен выговаривал допустившей ошибку девушке-кассирше... шепотом. В «Бееренлаубе» наблюдал драку между двумя бородатыми мусорщиками. Она продолжалась (бесшумно) секунд пятнадцать. Современный немец прекрасно умеет владеть собой. Это признак цивилизованности.
Конечно, немцы разговаривают не только вполголоса. Приходилось не раз наблюдать политические драки между облаченными в рвань леваками и полицией. Это зрелищно — и те, и другие готовятся к этой, если хотите, театрализованной потасовке, которая снимается на пленку.
Зато веселятся они шумно, во весь голос распевают народные песни, щекочут друг другу бока и задорно визжат! Столько радости выплескивается в единицу времени, что диву даешься. Особенно в так называемый «Октоберфест» — «Октябрьский праздник» по случаю окончания уборки урожая (в городах его отмечают, пожалуй, веселее, чем в деревнях). Пьют в большом количестве пиво, жарят на огне колбаски или целую свинью. И вовсю резвятся.
В немцах есть еще одно противоречие. Любовь к родному гнездышку, повседневному домоседству, с одной стороны, и страсть к перемене мест, к путешествиям, с другой. Эту черту своих соотечественников подметил живший в XVIII веке философ Иоганн Готфрид Гердер. В старину многие из немецких племен, писал он, пребывали в вечном непокое; никакой народ не переселялся так часто, как они. И заключает: «Жизнь довольно-таки татарская».
Есть в немецком характере черта, вызывающая в широкой русской душе легкую усмешку, — точность. Если немец говорит, что встретится с вами в 15.20, значит, он будет на месте в 15.20, а не в 15.30. Невероятно, но немецкий наземный и подземный, воздушный и водный транспорт перемещается строго по расписанию. Бывают, конечно, опоздания, но ведь невозможно предсказать землетрясение, наводнение или пожар. Если по какой-либо причине (к примеру, ремонт) линия метро или наземки — «эсбана» закрывается, то на всех станциях вывешивается объявление о следующих тем же маршрутом специальных автобусах.
Нередко немецкая любовь к точности переходит в болезненную педантичность. В институте меня смешил анекдот о немцах: к морю ведет дорога, табличка: «До-моря 1000 метров», потом: «До моря 900 метров» и так далее. На берегу стоит табличка с надписью: «Море». Этот анекдот — не преувеличение. Тяга немцев к всевозможным письменным уточнениям, напоминаниям, запрещениям и предупреждениям безгранична и неистребима. Я коллекционировал эти надписи. В берлинском народном парке Фридрихсхайн, в кафе, я прочитал такое объявление: «В зале недопустимо изменение порядка расположения стульев», а на Ратушной площади саксонского городка Ортсранд любовь к точности была доведена до абсолюта — стрелка-указатель сообщала: «До туалета — 51,5 метра».
Свойственное некоторым нациям отсутствие пунктуальности порой доводит немца до столбняка, или, наоборот, воспитывает в нем приспособительный рефлекс. Как-то я жил в Берлине в «Гастхаусе» — Доме для гостей Союза свободной немецкой молодежи на Пистрориусштрассе. На другой день по приезде я сидел под портретом Хонеккера в столовой, в полном одиночестве, и ждал Бригитту, хозяйку, которая должна была принести мне завтрак ровно в восемь. Была уже половина девятого, а она все не появлялась. Я недоумевал: возможно ли такое? Без двадцати девять она вошла с подносом, и на мой удивленный вопрос, почему опоздала, заявила мне: — Так вы же из России!
Дескать, русские люди никогда вовремя не приходят.
В другой раз мне довелось остановиться в доме у супругов-пенсионеров Гюнтерс на Егерштрассе (в ту пору Отто Нушкештрассе). Их пунктуальность, переходящая в дотошность, не знала предела. На двери моей комнаты была прибита табличка: «Ausgang» — «Выход», словно я мог выйти на улицу через дверцу шкафа или окно.
Каждое утро фрау Гюнтерс приносила завтрак: несколько кусочков колбасы или зельца, кусочек сыра, масло, джем, чашечку кофе, а также поставленное в специальную рюмочку горячее яйцо, на которое был надет теплый шерстяной колпачок с вышивкой: «Гутен аппетит!».
Рождество у немцев — самый важный праздник. К нему готовятся за месяц, ходят с детьми на рождественские базары с аттракционами и духовым оркестром, обставляют квартиры рождественскими символами: Вифлеемской звездой и украшенной огнями дугой, которая, кстати, сравнительно недавно появилась в Восточной Германии и распространились по всей стране, хотя ее смысл знают далеко не все. Моя соседка по дому фрау Шеффель объяснила мне его. Этот символ пришел из Эрцгебирге — Рудных гор, где много полезных ископаемых. Когда горняки поднимаются на поверхность шахты, первое, что они видят, — образующие дугу огни над входом; постепенно эта дуга стала символом возвращения домой, к семейному очагу.
Незадолго до объединения Германии, летом 90-го, я приехал на Эльбу в так называемую «Деревенскую республику Рютерберг», расположенную в окрестностях мекленбургского городка Демиц. Ее провозгласили жители деревни, руководимые бургомистром Шмехелем и престарелым портным Разенбергером. Над деревней взвился республиканский флаг: на трехцветном красно-желто-голубом знамени земли Мекленбург — рыцарь со щитом и мечом; название деревни означает «Рыцарская гора».
После образования ГДР в 49-м году деревня Рютерберг очутилась в пограничной ничейной полосе, называемой там «мертвой». Сначала ее отгородили трехметровой высоты стеной от реки, чтобы никто не сбежал вплавь, затем со всех сторон обнесли металлической оградой с колючей проволокой, построили ворота и поставили возле них пограничный пост. Но и это показалось недостаточно герметичным. Протянули еще две полосы ограждений, а в лесу вокруг деревни разбросали капканы и выпустили овчарок на длинных поводках.
— Гостей к нам оформляли, как за границу, прощупывали в министерстве госбезопасности, — рассказывал мне деревенский бургомистр. — Мы смертельно устали от такой жизни. Утром железные ворота со скрипом растворялись, автобус вез в Демиц одних на работу, других — на учебу, своя школа в Рютерберге закрылась. Во второй половине дня людей перевозили обратно, и ворота запирались на замок. Мы жили на берегу Эльбы, но не ощущали этого, не видели реки. Или, заболеет, скажем, водитель машины, на которой нам привозили продукты, и мы остаемся без хлеба и молока — оформлять нового водителя долго и муторно.
Наверное, потомки нынешних жителей деревни не поверят, что их предки, не совершив ничего предосудительного, в мирное, бескровное время, десятки лет провели, как в концлагере.
До падения Берлинской стены почти что ежедневно мне приходилось пересекать государственную границу ГДР через Чек-Пойнт-Чарли на Фридрихштрассе и въезжать в Западный Берлин. Я попадал в другой мир — к людям, жившим в совершенно иных измерениях. Немцы здесь были другими, даже по языку. На немецкий язык в ГДР наложили отпечаток, во-первых, сам строй с его социалистическими реалиями, во-вторых, русско-советская терминология с ее бесконечными сокращениями (время от времени в гэдээровской прессе появлялись осторожные фельетоны в защиту немецкого языка).
В свою очередь в Западной Германии воздействие на немецкий оказал английский, там прочно утвердились американизмы. Слава Богу, что Германия объединилась в конце XX века, а не в середине следующего, как того желал Эрих Хонеккер, естественно, при условии, что обе ее половины будут социалистическими. Мне не раз приходилось присутствовать при общении «осей» — восточных и «весси» западных немцев. Разумеется, они прекрасно понимали друг друга, но постоянно что-то уточняли. К примеру, одно, казалось бы, для всех немцев понятие: «отдел кадров» у западных звучал как «Персональный отдел», а у восточных почти по-русски, но на немецкий лад одним словом: «Kaderabteilung».
Ярче всего контрасты в немецкой жизни были видны на Шпрее. Две половины Берлина с годами все дальше уходили в разные стороны.
Западный Берлин становился все более космополитичным — сюда устремились сотни тысяч турок, югославов, арабов и африканцев, они везли с собой свои традиции, образ жизни, религию, кухню (к примеру, на каждом шагу стал продаваться турецкий бутерброд с жареным мясом и овощами — денер-кебаб). В Восточном — часто слышалась русская и польская речь, в магазинах, кафе и общественных туалетах висели таблички на трех языках, а в «Центруме» — крупнейшем универмаге на Александерплац диктор предупреждал о возможности карманных краж на немецком, русском и польском. При этом казалось бы, парадокс Восточный Берлин остался более немецким, чем Западный. Тут сохранилось, к примеру, куда больше уютных, чисто немецких пивнушек: «гастштетте» и «бирштубе». Главное же, на мой взгляд, заключалось в том, что там сохранился прусский дух. Социализм Ульбрихта Хонеккера как бы законсервировал его: были реставрированы величественные и угрюмые, серого цвета административные и исторические здания — символ прусской государственности, царила прусская строгость нравов, остались шагистика и гусиный шаг в армии, тяжеловесность военных и гражданских обрядов, порядок в духе кайзеровских времен.
Но среди немногого, что, помимо неистребимых черт немецкого характера, объединяло этот поделенный пополам народ — была бюрократия, одинаково зевающая, подозрительно смотрящая тебе в зрачки.
В России в бюрократическом заборе всегда можно найти щель, иногда даже широкий лаз — позволю себе перефразировать известный сталинский тезис: взятки решают все. У немцев обнаружить такую щель практически невозможно; мне, как человеку, испытавшему обе — восточную и западную — формы бюрократии, трудно сказать, какая лучше. Кажется, обе хуже.
Заживление кости
В ночь со 2-го на 3-е октября 1990 года я был зажат толпой в районе Бранденбургских ворот в центре бывшей и будущей столицы Германии. Ровно в полночь ударил Колокол Свободы, и все, кто пришел в центр Берлина, словно помешались. Искрились фейерверки и бенгальские огни, плескалось море флагов, над всем пространством между Бранденбургскими воротами и Рейхстагом плыли мелодии Бетховена, Россини и Брамса. Какой-то экзальтированный тип обдал всех стоявших рядом, в том числе и автора этих записок, шампанским. Такой коллективной эйфории я не видел еще никогда. Люди смеялись, плакали, ликовали.
В ту ночь немцы объединились. В результате возникло качественно новое государство: исчезла ГДР, но перестала существовать и прежняя Западная Германия. Довольно скоро вслед за эйфорией объединения наступила полоса отчуждения; месяц назад обнимавшие друг друга немцы вроде как заговорили на разных языках.
Сращивание двух половин одной страны, как заживление кости после перелома, — процесс нескорый и достаточно мучительный. Он сопровождается избавлением от многих иллюзий. Немцы быстро меняются.
Недавно в «Штерне» мне попалась любопытная самооценка: «Внутренне мы стали другими. Катастрофы в нашей истории оставили глубокие следы. Мы перестали быть немцами 1871-го или 1933-го года. Мы больше не считаем, что являемся надеждой рода человеческого. В большей степени мы стали прозаическим бюргерским народом: нам хочется хорошо жить, хорошо питаться, гонять на мощных автомобилях, проводить отпуск в Кении, Бангкоке или на острове Мальорка. Единственное, что беспокоит, — это то, что мы действуем с невероятным успехом. «Достижение» мы сделали своей религией, ценностью в себе, какой оно, естественно, не является. Кажется, без этого фетиша мы уже не можем жить, как и без тщеславия, без рекордомании, жить так, как живут, к примеру, в Лихтенштейне или Португалии».
Оценка, возможно, верная, хоть и с налетом кокетства, с прозрачным намеком на то, что по многим параметрам немцы — первые в Европе.
Неуемные и честолюбивые, они хотят во всем быть впереди...

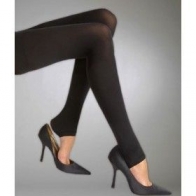
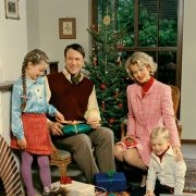








 Противовирусные препараты: за и против
Противовирусные препараты: за и против Добро пожаловать в Армению. Знакомство с Арменией
Добро пожаловать в Армению. Знакомство с Арменией Крыша из сэндвич панелей для индивидуального строительства
Крыша из сэндвич панелей для индивидуального строительства Возможно ли отменить договор купли-продажи квартиры, если он был уже подписан
Возможно ли отменить договор купли-продажи квартиры, если он был уже подписан Как выбрать блеск для губ
Как выбрать блеск для губ Чего боятся мужчины
Чего боятся мужчины Как побороть страх перед неизвестностью
Как побороть страх перед неизвестностью Газон на участке своими руками
Газон на участке своими руками Как правильно стирать шторы
Как правильно стирать шторы Как просто бросить курить
Как просто бросить курить

 - 3993 -
- 3993 -



