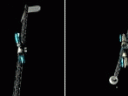Василий Панов
Василий Панов
Василий Алексеевич Панов, поручик гвардии, и Ипполит Семенович Степанов были сосланы на Камчатку по одному именному указу — за сопротивление наказу Екатерины по составлению Уложения законов Российской империи и резкое столкновение с графом Григорием Орловым.
Больше нам о Панове почти ничего не известно, кроме того, что он был активным участником заговора — еще с Охотска, когда, спасая Беньевского, он нанес смертельную рану командиру Камчатки Григорию Нилову, а на Формозе, принятый за морского пирата, убит стрелой туземца.
Василий Николаевич Берх, первый русский исследователь большерецкого бунта, встречаясь с очевидцами тех событий, писал о Панове: «... был ... очень хорошей фамилии, с большими талантами и особенной пылкостью ума, но, увлеченный порывами необузданных страстей, послан он был за первое не очень важное преступление в Камчатку».
Эта фраза ввела в заблуждение многих авторов. Образ Василия Алексеевича в исторической литературе носит некий оттенок злодейства — ведь убил же он Нилова! Убил. Но через несколько часов после этого Панов останавливает Винбланда, когда тот приказывает поджечь дом казака Черных, единственного во всем Большерецке выступившего с оружием в руках против бунтовщиков, а затем Панов защищает купца Казаринова — тот находился в доме Черных и чуть не был убит озлобленными промышленниками и ссыльными.
Василий Панов был одним из тех, с кем разговаривал Степанов «... о том, каким образом освободить жителей Камчатки от грабительства и жестокости местного начальства».
Но судьба распорядилась так, что он сам был убит как пират и похоронен на чужбине.
Максим Чурин
Если бы даже не было этого знаменитого плавания на «Петре» из Большерецка в Макао, имя штурмана Максима Чурина осталось бы в истории.
Он появился в Охотске в 1761 году — был направлен Адмиралтейств-коллегией в распоряжение Сибирского приказа,— и принял командование галиотом «Святая Екатерина», который должен был выполнять грузопассажирские рейсы по маршруту Охотск — Большерецк.
В августе 1768 года «Святая Екатерина», на борту которой находился руководитель секретной правительственной экспедиции капитан Петр Кузьмич Креницын, стояла уже в Исаноцком проливе у берегов Аляски. Рядом покачивался на волнах гукор «Святой Павел», на борту которого находился лейтенант М. Левашев.
11 августа 1768 года суда эти разлучились. Экипаж «Екатерины» зимовал на острове Унимак, а «Святой Павел» отправился к Уналашке. Зимовка «Екатерины» была тяжелой — за несколько лет до этого на Лисьих островах — Умнак, Унимак, Уналашка — восставшие алеуты убили русских зверобоев с четырех промысловых ботов, и потому отношения с коренным населением Унимака складывались у Креницына самые напряженные. Не было свежей пищи — ели солонину. Тридцать шесть могил появилось в ту зиму на Унимаке рядом с русским лагерем.
6 июня 1769 года на Унимак пришел галиот «Святой Павел». 23 июня оба судна вышли в море и взяли курс на Камчатку. В конце июля экипажи обоих судов отдыхали уже в Нижнекамчатске, а в августе следующего года вернулись в Охотск.
Здесь Чурин получил под свою команду новый галиот «Святой Петр», построенный в Охотске и спущенный на воду в 1768 году.
Но когда Максим Чурин встретился с Беньевским, Винбландом, Степановым и Пановым, которых ему приказано было доставить на Камчатку, все повернулось иначе. Вот что пишет С. В. Максимов в книге «Сибирь и каторга»: «Согласие Турина (Чурина на бегство.— С. В.) безоговорочно и надежно в том отношении, что другого выхода ему не представлялось; идти в Охотск он не мог, без стыда и опасности, по случаю неоплатных долгов своих; согласие же свое он дал под впечатлением недовольства своего на начальство, предавшее его суду за неповиновение и развратное поведение». Однако кое-что здесь вызывает сомнения. Например, откуда такие долги, если с 1765 года Чурин в постоянных плаваниях то с Синдтом, то с Креницыным? В последнее Чурин уходит вместе с женой Ульяной Захаровной...
И все же без штурмана Чурина не было бы ни побега, ни долгих скитаний на чужбине галиота «Святой Петр». Дело в том, что этот опытный моряк оставался единственным человеком во всем русском флоте, кто проделал к тому времени три похода от Камчатки до Америки и Китая. Именно он, штурман Максим Чурин, провел галиот не проторенной еще морской дорогой и нанес ее вместе с помощником своим, штурманским учеником Дмитрием Бочаровым, на карту, которая и по сей день еще, может быть, и не изученная никем, лежит в московском архиве, куда повелела Екатерина спрятать все упоминания о камчатских бунтарях...
Но Чурин не дожил до этого дня — сломленный, как и многие, предательством Бейпоска, он умер в Макао 16 октября 1771 года.
Иоасаф Батурин
Рассказ о нем лучше всего начать со слов императрицы Екатерины II уже после смерти Иоасафа Андреевича: «Что касается до Батурина, то замыслы его дела вовсе не шуточны. Я не читала после и не видала его дела, но мне сказывали наверное, что он хотел лишить жизни императрицу, поджечь дворец и, воспользовавшись общим смущением и сумятицею, возвести на престол великого князя. После пытки он был осужден на вечное заключение в Шлиссельбурге, откуда, в мое царствование, пытался бежать и был сослан на Камчатку, а из Камчатки убежал вместе с Беньевским, по дороге ограбил Формозу и был убит в Тихом океане».
Странно, что в книге С. В. Максимова «Сибирь и каторга» о Батурине всего лишь несколько строчек: «В 1749 году поручик Бутырского полка Иоасаф Батурин послан был в Камчатку за то, что предложил свои услуги великому князю Петру Федоровичу возвести его на престол при жизни тетки». Очень неполно, да и неточно.
Но вот некоторые подробности из современного уже источника: «...Батурин был подпоручиком Ширванского полка. После разжалования и ссылки в Сибирь долго тянул солдатскую лямку, снова дослужился до подпоручика, теперь уже Шуваловского полка, размещенного под Москвой. И снова арест: «сумасшедший дворянин» пытался привлечь к участию в дворцовом перевороте мастеровых людей, за 25 лет до Пугачева поднимал народный бунт. Во время пребывания Елизаветы в Москве, летом 1749 года, Батурин, офицер полка, вызванного для усмирения рабочих людей суконной фабрики Болотина, задумал с помощью солдат и восьмисот бастующих мастеровых заточить Елизавету, убить Разумовского и возвести на престол Петра Федоровича — впоследствии Петра III. «Его высочество мог бы всякому бедному против сильных защищение иметь»,— говорил Батурин.
«Московский агитатор» — назвали Батурина в одном из русских журналов в конце XIX века. «Агитатор» после «крепкого содержания» в тюрьме еще 16 лет, с 1753 до 1769 года, просидел «безымянным колодником» в Шлиссельбурге. Ночами в тюремном окне искал Батурин звезду своего императора, чтобы поговорить с ней. В 1768 году Батурин написал письмо Екатерине и за это по старинному пути колодников, через Сибирь и Охотский порт, прибыл в Большерецк в 1770 году...— все это вы можете прочесть в книге «Облик далекой страны» А. Б. Дэвидсона и В. А. Макрушина.
Увы... Многое было в этой истории совсем не так. По крайней мере, материалы Центрального государственного архива древних актов, где хранится дело «О подпоручике Иоасафе Батурине, замыслявшем лишить престола императрицу Елизавету в пользу великого князя Петра Федоровича», говорят о другом.
Иоасаф Андреевич был сыном поручика Московской полицмейстерской канцелярии. В 1732 году он поступил в Шляхетский кадетский корпус, а в 1740-м — выпущен прапорщиком в Луцкий драгунский полк и прослужил здесь семь лет.
В феврале 1748 года случилось так, что десятая рота, в которой проходил службу Иоасаф, осталась без командира, и Батурин по собственной инициативе принял командование ротой, полагая, что он этого вполне достоин. Но не тут-то было — полковник Элнин уже назначил нового командира роты. Батурин принял того в штыки и заявил своему полковому командиру примерно следующее: «Напрасно-де, господин полковник, изволишь меня обижать. Я-де хороший командир и беспорядков у меня не видывали». И, к слову, добавил, что ежели его не назначат командиром, то он тогда будет вынужден просить у генерал-инспектора, когда тот прибудет в полк, аудиенции и покажет генерал-инспектору все непорядки в полку, а также расскажет все драгунские обиды. Полковник в бешенстве заорал: «Арестовать! Сковать! В «Тихомировку» его!» «Тихомировка» — полковая тюрьма, где, в нарушение устава, полковник Элнин уже однажды продержал прапорщика Тихомирова.
— Я такого не заслужил, чтоб меня ковать и в тюрьму сажать,— резко ответил Батурин и отказался сдать свою шпагу полковнику.
Тогда его посадили, согласно военным «регулам», под домашний арест. Батурин поначалу было смирился, но на следующий день пришел в полковую канцелярию и в присутствии всех обер-офицеров обвинил полковника Элнина в государственной измене.
Как выяснило следствие, донос Батурина оказался ложным — единственный свидетель прапорщик Федор Козловский отказался подтвердить обвинение Батурина в том, что Элнин оскорбил «блаженныя памяти вечно достойныя» покойную императрицу Анну Иоанновну, которая, по известным причинам, не жалела ничего для герцога Курляндского.
Но... «за те его непорядочные поступки велено лиша его Батурина прапорщичья чина и патента послать в казенные работы на три года, а по прошествии попрежнему в полк до выслуги в драгуны». И вот тут-то произошла роковая заминка, вероятно, в ожидании утверждения приговора на высшем уровне — и Батурина даже освободили из-под стражи, отдав его на поруки. Тут ему пришел и чин подпоручика в соответствии с «регулом» за выслугу лет. И все это было как ковш холодной колодезной воды, которую выплеснули всю без остатка на раскаленные камни души подпоручика без чина, арестанта-казенника, честолюбца, каких только поискать еще в отечественной истории. Но пришел приказ снова взять Батурина под караул.
Этот арест имел для Иоасафа Андреевича роковое значение — тут же в тайную канцелярию явились прапорщик Выборгского полка Тимофей Ржевский и вахмистр Пермского драгунского полка Александр Урнежевский и донесли, что Батурин подбивал их, заручившись поддержкой и денежной помощью великого князя Петра Федоровича, поднять фабричный московский люд и «находящихся в Москве Преображенских батальонов лейб-компанию», а там, дескать, «заарестуем весь дворец — ...Алексея Григорьевича Разумовского где не найдем и его единомышленников — всех в мелкие части изрубим за то, что-де от него, Алексея Григорьевича, долго коронации нет его императорскому высочеству, а государыню-де императрицу до тех пор из дворца не выпускать, пока его высочество коронован не будет».
Что же имел против императрицы Елизаветы прапорщик Луцкого драгунского полка Батурин? Ничего. Он был согласен, чтоб «Ея императорское величество была при своей полной власти как ныне есть, а его бы высочество с повеления Ея императорского величества имел только одно государственное правление и содержал бы армию в лучшем порядке...». То есть Батурину нужен был на троне человек, который бы двинул вперед его, батуринскую, военную карьеру.
Весь гнев Батурина направлен был лишь против графа Разумовского. Что же его так раздражало? То, что Разумовский, сын простого казака, певчий императорского хора, оказался у кормила власти, любимцем императрицы? Допустим. Но что именно — зависть к успехам любовника-счастливчика или справедливое чувство гражданского негодования по поводу всех этих фаворитов-лизоблюдов, приближенных к трону, чувство, которое испытывали все истинные сыны Отечества, владело Батуриным? О России ли думал он, о застое, духовном и экономическом, который переживала страна?
А вот и ответ самого Батурина: «... хотел он, Батурин, показать его сиятельству свою услугу, но только он до его сиятельства не допущен и придворным лакеем из покоев его сиятельства выслан с нечестью и думал он, Батурин, что так его нечестиво выслать приказал его сиятельство».
Вот так, а приласкал бы, приголубил — и никаких тебе кровавых заговоров.
Четыре года сидел Батурин в подземелье тайной канцелярии под крепким караулом, ожидая конфирмации, но ее не последовало — видимо, Елизавета была согласна с приговором — и в 1753 году Иоасаф Андреевич переведен в Щлиссельбургскую крепость, в одиночную камеру, на вечное содержание...
Через 15 лет, проведенных в одиночке, он передал с молодым солдатом Федором Сорокиным письмо, которое «полковник» просил передать самолично царю или царице.
Это было в 1768 году, когда уже правила Екатерина II.
Прочитав письмо Батурина, императрица очень разгневалась. Как посмели ей напомнить о том, кто столько лет приходился ей мужем и с кем было покончено раз и навсегда, чьи кости уже давно сгнили, как должна была сгнить и сама память, но ползут и ползут чьи-то лживые слухи о том, что он жив и — на тебе! — явится на суд божий...
17 мая 1769 года обер-прокурор Вяземский, исполняя монаршью волю, положил перед Екатериной указ о судьбе Батурина, где предписывалось «послать его в Большерецкий острог вечно и пропитание же ему тамо иметь работою своею, а притом накрепко за ним смотреть, чтоб он оттуда уйтить не мог; однако же и тамо никаким его доносам, а не меньше и разглашениям никому не верить».
«Быть по сему»,— начертала Екатерина, но точку в скитаниях Батурина судьба поставит еще не скоро.
Из Охотска на Камчатку Батурина отправили отдельно от всех на галиоте «Святая Екатерина», так что, вероятнее всего, он ничего не знал о намерениях Беньевского, Винбланда, Степанова и Панова захватить галиот «Святой Петр» и бежать на нем за границу.
Но в большерецком бунте Батурин принял самое активное участие, за что и получил в конце концов столь желанный и долгожданный чин полковника, в коем и числился по реестру экипажа мятежного галиота, вторым по списку после своего предводителя.
И еще одна неточность в записках Екатерины Великой — не был Батурин убит в Тихом океане при ограблении Формозы, а умер 23 февраля 1772 года при переходе из Кантона во Францию.
Александр Турчанинов
Камчатка была местом политической ссылки многих государственных преступников. Во время царствования Елизаветы на Камчатку отправились прапорщик лейб-гвардии Преображенского полка Петр Ивашкин, принадлежавший к знатному роду, крестник Петра Великого и баловень Анны Иоанновны; сержант лейб-гвардии Измайловского полка Иван Сновидов и камер-лакей правительницы Анны Леопольдовны, матери малолетнего Иоанна VI Александр Дмитриевич Турчанинов.
Последний осмелился даже сказать вслух, что Елизавета Петровна не имеет наследственного права на российский престол, потому что они с сестрой Анной — внебрачные дети Петра от Марты Скавронской. А Иоанн VI — законный правнук царя Иоанна V Алексеевича и его завещала короновать императрица Анна Иоанновна...
За эти «произносимыя им великоважныя, непристойныя слова» велено было вырвать Турчанинову язык, а всем троим — учинить жестокое публичное наказание на Красной площади, вырвать ноздри и сослать куда подальше.
Александр Турчанинов на первых порах оказался в Охотске, Ивашкин в Якутске, Сновидов на Камчатке.
Но скоро от командира Охотского порта пришла бумага о том, «что Турчанинов, находясь в остроге, проел все свои деньги, которые у него были, теперь помирает с голоду, а кормовых ему не положено, пустить же его ходить по миру он боится, чтобы колодник не рассказал в народе тех слов, за что он был сослан».
Подивились в московском Сибирском приказе логике охотского командира — боится пустить по миру человека, у которого вырвали язык... И пожалели Турчанинова — поняли, что ретивый сей начальник заморит-таки несчастного колодника до смерти, и составили проект нового указа, по которому местом ссылки и Турчанинова, и Ивашкина определялась Камчатка. Каждый из них устраивал свою личную жизнь как мог. Сновидов примкнул к миссионерам и с их помощью завел в устье реки Камчатки солеваренный завод. Так он вышел в люди. Ивашкин сблизился с командиром Камчатки Василием Чередовым и стал в этот период фактическим правителем Камчатки. Потом, как это водилось, Чередов был отдан под суд, и Ивашкин остался без своего высокого покровителя.
Наступил и звездный час Александра Дмитриевича Турчанинова. На Камчатку прибыл, назначенный Сенатом, новый командир капитан-лейтенант И. С. Извеков. Такого изверга Камчатка не знала ни до, ни после: дело доходило до того, что личный секретарь Извекова боялся входить для доклада в покои командира, не имея за поясом заряженного пистолета или обнаженной сабли — действия и поступки Извекова были самые неожиданные, так что ни один человек в Большерецке не мог предполагать, чем может закончиться для него встреча с командиром.
Каждый день в большерецкой канцелярии шла попойка — пили особо приближенные. Во главе стола восседал лучший друг Извекова — безъязыкий Александр Турчанинов. За пять лет владычества Извекова на водку и закуску ушло около семидесяти тысяч рублей.
К вечеру одуревшие от выпитого собутыльники выходили проветриться на единственную в Большерецке улицу, густо заросшую луговой ромашкой... Никто в этот час не смел даже выглянуть во двор — никому не хотелось быть избитым или искалеченным. Извекову все равно было, кто оказывался перед ним — ребенок или женщина, солдат или казак, он сразу начинал отыскивать, к чему бы ему придраться. И обязательно находил — и жертву по его приказу и на его глазах пороли, как на корабле, линьками.
Но мог командир и сам схватиться за оружие, чтобы расправиться тут же на месте — одному казаку Извеков перерубил нос своим офицерским кортиком, другому саблей разбил голову. Не было управы на зверюгу-командира — Охотску, как все прежние командиры, он не подчинялся, а Сенат не намерен был изменять свой указ.
В 1768 году на полуостров была завезена черная оспа. Она унесла тысячи жизней, а Извеков пил и палец о палец не ударил, чтобы сделать хоть что-то для спасения людей. Он только рассылал по камчатским селениям свои циркуляры о том, что нужно держать больных в теплых избах, кормить свежей рыбой и не поить холодной водой... Но некому было ловить свежую рыбу, топить в избах печи, подавать больным теплую воду — обезлюдели многие селения и в холодных избах лежали неубранные трупы, а оставшиеся в живых бежали куда глаза глядят.
Вот тогда-то и переполнилась в камчатской столице Большерецке чаша народного терпения, и 2 мая 1769 года казаки и солдаты, камчадалы и промышленники, чиновники большерецкой канцелярии и моряки с зимующего в Чекавке галиота «Святой Павел» подняли бунт против Извекова. Командир Камчатки безропотно сдал власть, но 19 мая в пять часов утра вместе со своими вооруженными компаньонами-собутыльниками захватил большерецкую канцелярию, выпустил из казенки арестантов и, заняв круговую оборону — выставив все имеющиеся в Большерецке пушки,— закатил пир на весь мир.
Жители Большерецка пошли на приступ и, выломав двери, ворвались в канцелярию, готовые к смертному бою с ненавистным Извековым и иже с ним. Но они увидели, что Извеков и все остальные защитники были вдрызг пьяны.
В тот же день на галиоте «Святой Павел» Извекова в кандалах отправили в Охотск, где он предстал перед судом и был разжалован в матросы.
Лишившись покровителя, немой Турчанинов вынужден был в унижении добывать пропитание, чтобы не умереть с голоду в остроге, где его все без исключения ненавидели за дружбу с бывшим командиром и за все те издевательства над людьми, где он был не только немым свидетелем, но и добровольным участником, а то и инициатором. И потому как утопающий за соломинку ухватился Турчанинов за возможность послужить своему предводителю и бежать с ним хоть на край света. Так он оказался среди членов экипажа «Святого Петра» и дошел вместе со всеми до Макао, где и умер 10 ноября 1771 года.
Петр Хрущов
Загадочной фигурой был этот Петр Алексеевич Хрущев в стане большерецких заговорщиков. Единственный не принявший присяги на верность царевичу Павлу, не подписавший «Объявления». В пику социал-утопическим настроениям многих из заговорщиков повез с собой в Европу рабов — камчадалов Паранчиных. Странно, но ему все прощалось. Более того, на галиоте он исполнял обязанности аудитора — военного следователя, судьи и прокурора. То есть ему было доверено вершить суд над членами экипажа галиота на основании тех законов, которые он не признавал и презирал, не скрывая этого от всех. Почему? Да потому что эти самые законы не признавал и презирал и лучший друг Петра Хрущева Август Мориц Беньевский.
«Человек отличного ума... с большими познаниями»,— характеризовал Хрущева Василий Берх, а ему об этом говорили те, кто помнил еще ссыльного Хрущова. Многие историки даже считают, что инициатива заговора и побега исходила именно от Петра Алексеевича. Думаю, что Беньевского и Хрущова не стоит разобщать — жили они вместе, думали, искали возможности захвата власти в Большерецке и бегства с Камчатки.
Хрущов был циником. Когда у бунтарей отрезали все пути назад, он продемонстрировал полное презрение ко всему, что еще вчера воодушевляло заговорщиков. Слыл он и честолюбцем. За что впервые поплатился в 1762 году, будучи поручиком лейб-гвардии Измайловского полка, когда решил, не считая себя хуже братьев Орловых, организовать новый дворцовый переворот. Кого же наметил он в русские цари? Петр III был убит Алексеем Орловым. Может быть, Павла? Но тогда почему Хрущов отказывается ему присягать? Значит, кого-то еще? Кого? Все того же бедного Иоанна Антоновича, из-за которого лишился языка и ноздрей Александр Турчанинов еще в 1742 году.
Заговор составили братья Гурьевы — Семен, Иван, Петр и братья Хрущевы — Петр и Алексей. Они хотели воспользоваться тем, что в рядах гвардии не было единого мнения о законности восшествия на русский престол немецкой принцессы Софьи Августы Ангальт-Цербстской... Но ведь Иоанн Антонович, принц Брауншвейг-Люнебургский, сын герцога Брауншвейгского, внук герцога Мекленбургского и только лишь правнук царя Ивана V — какая там русская кровь...
Тем не менее Хрущевы и Гурьевы вознамерились посадить на трон Иоанна как наиболее достойного, даже не подозревая, что Иоанн VI за двадцать лет одиночного заключения в секретной камере Шлиссельбургской крепости превратился в идиота.
Любопытно, что в следственном деле Гурьевых—Хрущевых очень много сходного с делом Иоасафа Батурина. И здесь и там очевидна попытка выдать желаемое за действительное: увеличить число заговорщиков с пяти человек до нескольких тысяч, намекнуть на то, что среди заговорщиков и князь Никита Трубецкой, Иван Федорович Голицын, кое-кто из сановных Гурьевых и даже Иван Иванович Шувалов, а всего 70 «больших людей».
Цель была проста — запутать как можно большее число людей, втянуть их в заговор, совершить переворот и получить от нового императора все, что льстило воспаленному честолюбию. Но только в Большерецке Хрущов насладился вволю плодами нового заговора и получил наивысшее в его понимании удовлетворение, откровенно противопоставив себя толпе бунтарей и заняв особое, привилегированное место при особе предводителя.
В Большерецке вместе с Хрущевым отбывал ссылку и Семен Гурьев. Сначала и он примкнул к заговору — как-никак восемь лет провел уже в камчатской ссылке,— но в бунте участвовать отказался категорически. К тому времени он был уже женат на дочери ссыльного Ивана Кузьмича Секирина и стал отцом. Когда-то именно Семен Селиверстович Гурьев организовывал дворцовый заговор. Петр Хрущов же был лишь на вторых ролях. Вторую роль, если не вообще второстепенную, играл он и в Большерецком заговоре. Все это задевало болезненное самолюбие Хрущова, но в главари он так и не вышел.
Во Франции он поступил на службу капитаном корпуса волонтеров и отправился с Беньевским на Мадагаскар. Но в 1774 году вернулся в Россию, дождавшись прощения Екатерины II.
Иван Рюмин
Это единственный из камчатских казаков, кто принял участие в бунте. Хотя был он вовсе и не казак, а разжалованный канцелярист, «бывший за копеиста», «шельмованный казак», как говорится о нем в документах.
Что привлекло в нем Беньевского? Видимо, то, что Иван Рюмин служил в большерецкой канцелярии и имел доступ к морским картам. Ключик же к Рюмину подобрать было нетрудно: шельмованный — это все равно, что обиженный. Оставалось только выяснить — кем. Но и это было не так уж сложно — все теми же Креницыным и Левашевым, которые подтолкнули к бегству с Камчатки командира галиотов «Святая Екатерина» и «Святой Павел».
Чем же не угодил им Иван Рюмин? А случилось так, что на следствии в 1766 году следователи секретной правительственной экспедиции пытались узнать у Рюмина все, что тому приходилось записывать со слов мореходов Савина Пономарева, Степана Глотова, Ивана Соловьева о Лисьих островах — Умнаке, Уналашке, Унимаке. Рюмин же ни с того ни с сего заявил, что ему ничего не известно об этих «новооткрытых» землях. Обман раскрылся, когда сами мореходы Глотов и Соловьев уличили Рюмина в том, что он писал под их диктовку в 1764 году рапорт о «новооткрытых островах». Естественно, что все это не могло пройти Рюмину даром, и он был ошельмован — публично бит кнутом — и разжалован из канцеляристов в казаки.
Что-то не заладилось у Ивана и в отношениях с Беньевским — уже после того, как был оснащен галиот и готов в путь, штурман Чурин решает догрузить судно мукой, и Беньевский посылает в Большерецк за мукой Рюмина «с приказанием о немедленной доставке... под опасением жестокого наказания за ослушание». Поэтому мне не совсем ясно, по доброй воле или по принуждению отправился в то плавание Иван Рюмин вместе со своей женой, корячкой Любовью Саввичной.
На галиоте Рюмин исполнял роль вице-секретаря. Вместе с корабельным секретарем Спиридоном Судейкиным вели они путевой журнал, который стал фактически единственно правдивым документом о плавании «Святого Петра» в Охотском, Японском и Восточно-Китайском морях. Впервые «Записки канцеляриста Рюмкаа», которые можно было бы назвать «Путешествие за три океана», увидели свет в журнале «Северный архив» в 1822 году.
Супругам Рюминым выпала счастливая доля благополучно перенести все тяготы того путешествия и в 1773 году вернуться в Россию. Они вместе с Судейкиным поселились в Тобольске и, видимо, пошли по гражданской службе.
Яков Кузнецов
Среди промышленников, примкнувших к заговору, было и несколько камчадалов. Чем же их-то смог привлечь Беньевский? Землей Штеллера? Едва ли камчадалы шли на промыслы по воле своих старшин-тойонов да камчатского начальства, которое получало в казну ясак за каждого камчадала-промышленника на несколько лет вперед от купцов-нанимателей. Да еще сверх ясака в собственный карман изрядный куш, а камчадалы потом отрабатывали за все купцу, получая половину заработанного, которая полностью уходила на пропитание, лопотинку-одежонку, обувку и долги семьи, которые накопились за годы отсутствия кормильца. Так что вряд ли смогли бы привлечь камчадалов сказки о Земле Штеллера. Но они могли поверить в другое — во что верили Степанов и Панов — в существование островов, где люди живут свободно и счастливо, не ведая наказания и страха, нищеты и голода.
Почему я так уверен в этом? Да потому, что среди камчадалов-заговорщиков был один, кому кое-что могло быть известно о возможности существования таких островов. Это Яков Кузнецов, камчадал из Камаковского острожка на реке Камчатке. Когда-то этот острожек звали Пеучев или Шванолом, но позже его прозвали Камаков по имени вождя Камака, примкнувшего к антихристианскому восстанию ительменов и коряков, которое подняли в 1746 году братья-камчадалы Алексей и Иван Лазуковы. После крещения Камак получил новое имя — теперь его все звали Степан Кузнецов.
Об Алексее Лазукове, предводителе восстания, ходили потом нехорошие слухи. Он с корякскими вождями Умьевушкой и Ивашкой перебили ясашных сборщиков в острожке Юмтином, который потом, после расправы над бунтарями, станет называться Дранкой. Собирался он напасть и на Нижнекамчатский острог, где располагалась партия миссионеров архимандрита Иоасафа Хотунцевского, насильно крестивших камчадалов и коряков. Вожди сговорились выступить в один день двумя отрядами — один по морскому берегу, другой по долине — и, объединившись, взять приступом острог. Но в самый последний момент случилось непредвиденное — Алексей и Иван Лазуковы пришли в Нижнекамчатск и добровольно сдались властям. Их расстреляли. Но о предательстве Лазукова долго еще говорили русские, камчадалы и коряки. Слишком уж хорошо все они знали Алексея — человека необыкновенного мужества, честного и справедливого.
А всему виной были эти самые острова. В 1741 году Алексей Лазуков пошел в море на казенном пакетботе «Святой Петр», побывал у берегов Америки, высаживался на Шумагинских островах и пытался разговаривать — он был толмачом на судне — с аборигенами-американцами, которые признали его за своего и даже не хотели отпускать. В декабре экипаж пакетбота высадился на необитаемый остров. Чтобы выжить, каждый из экипажа, будь то офицер или простой толмач, должны были отказаться от всего того, что разделяло их в обычной жизни — от чинов, привилегий, чувств национального превосходства и сословных прав... И они выжили. Скроили из остатков пакетбота гукор и вернулись назад на Камчатку... Месяцы, проведенные на Командорском острове, Лазуков, должно быть, вспоминал очень часто. Эту счастливую историю передавали из уст в уста. Пережитое на островах чувство братства осчастливило и погубило Алексея Лазукова — не смог он повернуть оружие против тех, кто открыл ему новое понимание жизни, потому и предпочел он сдаться, зная, что не будет прощен ни палачом Хотунцевским, ни братьями своими по оружию и крови, которых он предал ради других своих братьев — по духу...
Такая вот история. И ее должен был знать Яков Кузнецов. Может быть, потому он и отправился в дальние края, чтобы найти такой же остров и устроить на нем такую же счастливую жизнь, какая явилась Лазукову...
Свой остров Яков Кузнецов найдет у африканских берегов — больного камчадала оставят в госпитале на Маврикии. С ним останутся такие же больные камчадал Сидор Красильников и промышленники Козьма Облупин, Андрей Оборин и Михаил Чулошников. До Франции доберется потом только Облупин. Что стало с остальными — неизвестно. Но если заглянуть в справочники и узнать, насколько счастливой была жизнь в те времена на Маврикии, то выяснится, что 10 процентов населения острова составляли белые господа, 6 процентов — свободные люди разных национальностей, а остальные проценты приходились на долю рабов-африканцев. Не было, оказывается, ни в одном из двух пройденных ими океанов той земли, на которой можно было бы счастливо жить, не страдая и не печалясь...
Не отыскалось такого острова и в третьем — Атлантическом океане. На кладбище Лурианского госпиталя остался навсегда камчадал Ефрем Трапезников. А Прокопий Попов, добравшись наконец до Европы, пошел пешком в Париж, чтобы добиться разрешения вернуться на родину...
Дмитрий Бочаров
Многие историки написали в своих исследованиях, что штурманский ученик Дмитрий Бочаров был вывезен с Камчатки насильно. Нет, насильно были вывезены только штурманские ученики Герасим Измайлов и Филипп Зябликов, а Бочаров добровольно примкнул к заговорщикам. Он был командиром галиота «Святая Екатерина». В недавнем прошлом — помощник Максима Чурина, зимовал вместе со штурманом на Унимаке, где, вероятно, поддерживал своего командира в его спорах с Петром Кузьмичом Креницыным. Затем Чурин принял «Святого Петра», и на зимовку «Святой Петр» и «Святая Екатерина» пришли в Чекавинскую гавань.
Известно, что Дмитрий Бочаров был в числе тех, кто решал вопрос о бегстве с Камчатки на казенном галиоте. И он бежал на нем вместе с женой Прасковьей Михайловной и потерял ее в Макао, как и командира своего, Максима Чурина.
С ним бежали и матросы с галиота «Святая Екатерина» — Василий Потолов, Петр Софронов, Герасим Береснев, Тимофей Семяченков. Только Василий Потолов — матрос из «присыльных арестантов» последовал с Беньевским, остальные остались со своим командиром — Дмитрием Бочаровым. По возвращении в Россию Бочаров просил, чтобы его оставили на морской службе в Охотске, но получил отставку, и местожительством ему определили Иркутск. Однако без моря Бочаров жить не мог и охотно дал свое согласие камчатским купцам-компанейщикам Луке Алину и Петру Сидорову повести на восток к богатым пушным зверьем островам промысловый бот «Петр и Павел». В числе компанейщиков Алина и Сидорова впервые пробовал свое счастье и молодой рыльский купец Григорий Шелихов — он тогда только примерялся еще, куда повыгодней пристроить капиталы своей жены, вдовы богатого иркутского купца,— как ему посоветовал дед жены Никифор Трапезников. В 1783 году Григорий Иванович приглашает Бочарова к себе и назначает его командиром галиота «Святой Михаил», который в тот же год в составе экспедиции пошел на Кадьяк основывать первое поселение будущей Русской Америки. На флагмане — галиоте «Три святителя» — шел вместе с Шелиховым командир судна штурман Герасим Измайлов, которого в конце мая 1771 года Беньевский оставил на необитаемом курильском острове Симушир. И в дальнейшем мореходные судьбы Измайлова и Бочарова будут неотрывны друг от друга.
Герасим Измайлов
Он был единственным в Большерецком остроге, кто пытался противодействовать бунтарям. Вечером 26 апреля 1771 года, совершенно случайно, Измайлов и Зябликов узнали, что Беньевский с ссыльными и промышленниками собираются убить командира Камчатки Нилова и бежать из Большерецка. Они тут же пошли в канцелярию, но к Нилову их не пустили. Когда штурманские ученики попытались рассказать обо всем караульному, тот не поверил, решив, что Измайлов с Зябликовым пьяны. Через час-другой они снова пришли, но караульный их опять не пустил. И вдруг на дворе кто-то испуганно закричал «караул!», в запертую дверь сильно ударили и потребовали отворить.
Зябликов с Измайловым спрятались в казенку за дверью. В тот же миг упала выломанная бунтарями дверь в сенях. Оттолкнув караульного, заговорщики прошли в спальню к Нилову. Вскоре оттуда донеслись шум, сдавленный крик, матерщина, удары... Потом Беньевский, Винбланд, Чурин, Панов — Измайлов узнал их по голосам — ушли.
Измайлов и Зябликов попытались незаметно ускользнуть, но караульные промышленники схватили Филиппа Зябликова, а Измайлову удалось незаметно выбраться из канцелярии, однако возле дома сотника Черных, где шла перестрелка, его обстреляли.
Вернувшись к себе на квартиру, Измайлов тотчас собрал людей, чтобы пойти с ними против бунтовщиков, но они настроены были нерешительно. Тогда обратились к секретарю Нилова Спиридону Судейкину. Тот в испуге замахал руками — только без крови! Его поддержали остальные. Пока рядили, спорили да переговаривались, пришли в дом к Судейкину Винбланд с Хрущевым и промышленниками, забрали все ружья, пороховое зелье, пули и приказали Измайлову быть тотчас на площади у большерецкой канцелярии, где Бейпоск собирал всю команду галиота «Святая Екатерина», на котором Герасим был помощником у Дмитрия Бочарова.
На площади присягали царевичу Павлу. Измайлов и Зябликов отказались от присяги, и их обоих посадили в башню большерецкой канцелярии, а потом вместе с другими арестантами — в числе которых был и Спиридон Судейкин — вывезли в Чекавинскую гавань и держали в трюме галиота «Святая Екатерина» под караулом, пока готовили к отплытию «Святой Петр».
Нужно сказать, что Беньевскому удалось все же сломить того и другого — под «Объявлением» стоят подписи обоих. Может быть, для отвода глаз — оба собирались бежать с галиота на байдаре матроса Львова, которого обещали отпустить перед самым выходом «Петра» в море, но ничего не получилось. Львов ушел один, и бросаться за ним вплавь было слишком рискованно — по реке шла шуга.
Зябликов ушел с Беньевским и умер в Макао, а Измайлов остался на необитаемом острове вместе с Паранчиными. Это случилось 29 мая 1771 года.
Им было оставлено три сумы провианта, ружье «винтовантое», у которого была сломана ложа; пороха и свинца фунта с полтора; топор, фунтов десять прядева, четыре флага, пять рубашек (одна холщовая, три дабяных), два полотенца, одеяло, собачья парка, камлея, фуфайка со штанами...
2 августа на трех байдарах пришли на Симушир промышленники во главе с купцом Никоновым. Измайлов потребовал, чтобы его немедленно доставили в Большерецк. Вместо этого Никонов забрал Паранчиных и отправился с ними и своими людьми дальше — на восемнадцатый остров Уруп — промышлять морского зверя.
«Питаясь морскими ракушками, капустою и прочим», обменяв с никоновскими зверобоями всю теплую одежду, которую оставил ему Беньевский, на продукты, остался Измайлов на острове один-одинешенек, как Робинзон Крузо. Потом, правда, прибыли на остров промышленники купца Протодьяконова — с ними и прожил Измайлов тот год, а в июле 1772 года Никонов доставил его на Камчатку. В Большерецке Измайлова и Паранчина арестовали и отправили под караулом в Иркутск.
Дмитрий Бочаров, обогнув Азию и Европу, прожив больше года во Франции, отправлен был из Петербурга на место своего нового жительства — в Иркутск 5 октября 1773 года.
Герасим Измайлов в награду за свое радение перед матушкой-царицей получил высочайшее повеление о своем освобождении из-под стражи 31 марта 1774 года. А еще через два года он, как и Бочаров, поведет на Алеутские острова промысловый бот Ивана Саввича Лапина и на Уналашке в 1778 году встретится с Джеймсом Куком, который с большой симпатией отзовется потом об этом русском мореходе в своем путевом дневнике.
В 1781 году Герасим Алексеевич вернется в Охотск, и здесь он будет приглашен на службу к Григорию Ивановичу Шелихову и поведет на Кадьяк галиот «Три святителя». С 30 апреля по 15 июля 1788 года Герасим Алексеевич Измайлов и Дмитрий Иванович Бочаров опишут на нем побережье Русской Америки от Кенайского полуострова до бухты Льтуа, открыв при этом заливы Якутаг и Нучек. Там, где побывали русские землепроходцы и мореходы, они «зарывали в землю медные доски с российскими гербами и надписью: «Земля Российского владения»...
На этом я хочу закончить свой рассказ о членах экипажа галиота «Святой Петр». Известно о них не так уж и много. Но и в этих неполных заметках видны их нелегкие и вместе с тем созвучные веку судьбы незаметных людей, усилиями которых вершилась история Российской империи.











 Противовирусные препараты: за и против
Противовирусные препараты: за и против Добро пожаловать в Армению. Знакомство с Арменией
Добро пожаловать в Армению. Знакомство с Арменией Крыша из сэндвич панелей для индивидуального строительства
Крыша из сэндвич панелей для индивидуального строительства Возможно ли отменить договор купли-продажи квартиры, если он был уже подписан
Возможно ли отменить договор купли-продажи квартиры, если он был уже подписан Как выбрать блеск для губ
Как выбрать блеск для губ Чего боятся мужчины
Чего боятся мужчины Как побороть страх перед неизвестностью
Как побороть страх перед неизвестностью Газон на участке своими руками
Газон на участке своими руками Как правильно стирать шторы
Как правильно стирать шторы Как просто бросить курить
Как просто бросить курить

 - 1657 -
- 1657 -