Послушайте, это совсем недалеко. Все время прямо и прямо, никуда не сворачивайте, — тараторила на ходу молоденькая сотрудница Пушкинских лабораторий Всесоюзного института растениеводства. — Потом будет поле: овес, пшеница, ячмень. А как увидите делянку с рожью — учтите, рожь под изоляторами! — тут, значит, и сидит Кобылянский, это сейчас его рабочее место, — и она убежала на обеденный перерыв, оставив меня в полной растерянности.
День подымался в ослепительной пене облаков, умытый теплым коротким ливнем, и поэтому дорога к «вировскому» полю, которое я разыскивал, останавливая прохожих, не казалась такой бесконечной и нудной. Вокруг меня на все лады шумела густолистая дубрава Пушкинского парка — в прошлом Царскосельского. В пруду по соседству визжала малышня. На лавочках, в тени деревьев, отдыхали пенсионеры. Порывы ветра, путаясь в вершинах, разносили дразнящие запахи жареного мяса и острых кавказских приправ... Вот уж никогда не думал, что селекционеры ВИРа выводят свои чудо-сорта именно здесь, рядом с мемориальным парком, где сама природа обращает человека к отдыху и удовольствиям.
Все оказалось именно так, как сказала девушка. Опытное поле открылось сразу, как кончились деревья. Оно лежало в плоской оправе кустарников, разбитое на квадраты, и на каждом квадрате кустились разного роста злаки — ячмень, пшеница, овес. Все было полно жизни, все буйно и зелено рвалось ввысь, и казалось, этой силе нет никаких преград.

Узнал я и обещанную делянку ржи, собственно, не ржи даже, а то, что она являла собой сейчас, — длинные ряды пирамид, затянутые белыми холстами. «Словно надгробия», — отметил я про себя: уж больно чудно выглядели эти матерчатые «обелиски» среди колышущейся, с голубым отливом нивы.
Среди белых рядов, то наклоняясь к пирамидам, то выпрямляясь в полный рост, хозяйничал человек в потертой клетчатой рубашке с закатанными рукавами. Он рыхлил землю, пересаживал растения, поливал, осматривал кусты — делал все это споро и сосредоточенно.
Я понял: этот человек и есть Кобылянский. В прошлом рядовой агроном, затем лаборант Северо-Западного научно-исследовательского сельхозинститута, а ныне доктор биологических наук, заведующий отделом серых хлебов Всесоюзного научно-исследовательского института растениеводства имени Н. И. Вавилова, видный специалист по селекции и генетике ржи.
Что я знал до сих пор о ржи? То, что эта культура является ведущей и у нас в стране, и за рубежом — в особенности в Польше, ГДР и ФРГ (пшеница там не стянет»). То, что Советский Союз выращивает почти половину ржаного зерна в мире; что потенциал урожайности некоторых наших сортов превышает 60 центнеров с гектара; что ржаной хлеб вдвое больше, чем пшеничный, содержит в своих белках лизина, ценнейшей аминокислоты, которой так богаты мясо, молоко и яйца. И, наконец, то, что пышущая жаром, хрустящая, духовитая корочка настоящего черного хлеба, да еще приправленная солью, да с молоком в придачу едва ли не самое соблазнительное яство в мире...
 Однако знал я и то, что в ряде областей Нечерноземья урожайность ржаной культуры падает, посевные площади сокращаются. Некоторые руководители хозяйств объясняют это тем, что рожь требует больше затрат и ухода и что убирать ее комбайнами намного труднее, чем пшеницу и ячмень. Длинный соломенный стебель часто полегает, колос его перестаивает и осыпается, и там, где можно было бы получить 20-30 центнеров с гектара, берут 10-15, а то и меньше. Те же руководители сетовали, что нет хороших, устойчивых от полегания сортов. «В целом по Северо-Западному экономическому району, — отмечала газета «Правда», — площади под рожью... резко сокращены. Ее место заняли ячмень и овес».
Однако знал я и то, что в ряде областей Нечерноземья урожайность ржаной культуры падает, посевные площади сокращаются. Некоторые руководители хозяйств объясняют это тем, что рожь требует больше затрат и ухода и что убирать ее комбайнами намного труднее, чем пшеницу и ячмень. Длинный соломенный стебель часто полегает, колос его перестаивает и осыпается, и там, где можно было бы получить 20-30 центнеров с гектара, берут 10-15, а то и меньше. Те же руководители сетовали, что нет хороших, устойчивых от полегания сортов. «В целом по Северо-Западному экономическому району, — отмечала газета «Правда», — площади под рожью... резко сокращены. Ее место заняли ячмень и овес».
Нельзя сказать, что Владимир Дмитриевич Кобылянский обрадовался моему приходу («Почему не предупредили? Я бы встретился с вами в кабинете...»), но и нельзя утверждать, что он принял в штыки мою идею написать о генетике ржи и перспективах ее ближайшего будущего.
Он внимательно и остро ощупывал меня взглядом.
— Вот говорят: «рожь», «рожь» — а что это за культура и откуда род свой ведет? Вы-то, надеюсь, знаете?
— Откуда-то с севера... — попытался я уйти от ответа.
— Вот именно — «с севера», — громко хмыкнул Кобылянский, словно обрадовавшись моему невежеству. Он поудобнее устроился на переносном брезентовом стульчике, предложил и мне такой же.
— Рожь — типичная южанка, и родина ее Закавказье, Турция, точнее — Анатолия. Там ее первичный геноцентр! — голос его звучал непререкаемо. — Как культура, рожь была известна еще в бронзовом веке, за три тысячи лет до нашей эры. А потом пришла в Европу. Впервые о ней говорится в исторических записках Катона Старшего, который связывает «помрачение» солнца с повышением цен на ржаную муку вследствие плохого урожая... Я предполагаю, — добавил Кобылянский после некоторой паузы, — что Центральная и Северная Европа заимствовали слово «рожь» у древних славян. Какие для этого основания? А очень простые: в названии отчетливо просматривается славянский корень «род», который дает множество словообразований — «рожать», «родина», «народ» и так далее. А в других европейских языках слово, обозначающее эту культуру, стоит особняком, у него нет никаких родственных или производных названий. Ну, например, — рошо (татарское), росо (мордовское), rugus (литовское), rosch (сербское), rog (венгерское), rag (шведское), rug (датское), rogge (голландское), Roggen (немецкое), rue (английское)...
Хочу заметить, — продолжал Владимир Дмитриевич, — что рожь раньше не была самостоятельной культурой. Жителям Малой Азии, Ирака, Афганистана, Средней Азии и Индии она была известна с древнейших времен как сорное растение в посевах пшеницы и ячменя.
— То есть как это?! — не поверил я.
— А так. Культурная рожь ведет свою родословную от сорнополевой, дикой, которая продвигалась в более северные широты вместе с главными в то время хлебными культурами — пшеницей и ячменем. Холод этих широт оказался более приемлемым для ржи, нежели для ее конкурентов; в результате она постепенно вытеснила эти культуры и стала вполне независимой. «Америк» я здесь не открываю: все это доказано исследованиями Николая Ивановича Вавилова, основателя нашего института. Но у ржи есть одна важная особенность...
Кобылянский поднял голову и поморщился. В синем струящемся воздухе беззаботно порхали бабочки, жужжали шмели и пчелы; гонимые ветром, кружились блескучие пылинки, которые, попадая на лицо, оставляли желтоватый след. Картина была по-летнему безмятежной, но Кобылянский, судя по его виду, имел на этот счет собственное мнение.
— У ржи есть одна важная особенность, — хмуро повторил он. — Она является перекрестным растением, точнее — перекрестноопыляемым. А это значит, чтобы сохранить сорт в первозданной чистоте, нужно обособить его от остальных сортов. Вот почему мы держим рожь под изоляторами. Особенно это важно сейчас, в период цветения.
Владимир Дмитриевич приподнял холсты у нескольких пирамид, и я увидел спрятанные под ними растения, листья которых были покрыты желтой пыльцой. Некоторые кусты ржи выделялись статным ростом и обилием зеленой массы, другие выглядели поскромнее — метра полтора, не больше; третьи производили впечатление коренастых карликов, однако их лиловеющий колос был длинным, тугим и весомым, как кошелек. Кобылянский взял в руку один из колосков, и я отметил про себя, что так обычно держат ребенка за подбородок, когда хотят сказать ему что-то хорошее.
— Как мы поступаем обычно? — будничным голосом произнес ученый. — Сеем квадратную делянку; потом, когда на растениях появляется колос, ставим на нее пирамидальный каркас. На каркас натягиваем изоляторы из плотной холщовой материи, чтобы пыльца не прилетела сюда от соседних сортов. Иным способом сохранить рожь нельзя.
— А как же она существовала раньше — целые века?
— Века может существовать лишь один сорт и только в одном определенном месте. То есть на расстоянии полета пыльцы. Ветер не подует — сорт не «загрязнится»... А у нас тут на четырех тысячах метров растет три тысячи разных сортов. Все это, разумеется, в пределах опытного поля.
Если они переопылятся, получится что-то вроде среднего арифметического. Исчезнут все частности, личностные признаки. А наука генетика отвергает средние числа, она зависит от частностей и, накапливая эти частности, комбинируя ими, приводит нас к открытию. Только так можно познать великое разнообразие существующих в мире сортов.
Он снял очки и вытер сбежавшие на стекла капельки пота. Высокое солнце заставило «ас пересесть поближе к изоляторам, в спасительную тень пирамид.
— Рожь — это уравнение со многими неизвестными, — продолжал Владимир Дмитриевич. — Каждый сорт — популяция близких и одновременно разных растений. И вот все это разнообразие нужно как-то расчленить; чтобы понять общее, нужно изучить детали. Допустим, мы нашли какое-то растение, выделили из популяции нужный нам генотип и с ним работаем. Он у нас чистый — это мы знаем, потому что не дали ему произвольно переопылиться. И вот начинаем испытывать его на зимостойкость, на восприимчивость к болезням, испытываем на устойчивость к полеганию, снежной плесени и так далее. На это уходят годы черновой неблагодарной работы. Если мы вдруг прозеваем момент цветения и произойдет опыление пыльцой соседнего сорта, то урожай, который мы снимем (50-70 зерен с колоса), уже не будет урожаем этого растения. Это будет гибрид с ненужными нам признаками, а значит — начинай все сначала. Вот почему многие селекционеры «плюнули» на рожь и переключились на другие, более «легкие» культуры, где можно коротким броском прийти к цели...
Вдруг что-то вспомнив, Владимир Дмитриевич посмотрел на меня и, словно извиняясь, сказал:
— Мы тут с вами разговоры разговариваем, а ведь дело-то стоит.- И предложил, «если, конечно, интересно», перебраться поближе к растениям. Поочередно отворачивая холсты, он бережно ощупывал стебли — от первого междоузлия до колоса и, безошибочно находя одному ему известные «частности», особыми значками записывал показания в блокнот: мощность корневой системы, прочность соломины, высота злака, густота стеблестоя и т. д... На одной из делянок он обратил мое внимание на растения, листья которых были покрыты красно-бурым налетом, — Бурая ржавчина, — сказал Кобылянский. — Она способна унести половину урожая. Эти растения были заражены искусственно две недели назад. Скоро их листья огрубеют, станут почти жестяными — высохнут и отомрут. Страшная болезнь, эта бурая ржавчина!.. — Непосвященному человеку могло бы показаться, что он умышленно загубил свой будущий урожай.
— Классический путь селекции — это скрещивание, — напомнил я о теме нашей беседы. — Интересно бы знать, какие из этих растений вы стали бы скрещивать, чтобы получить новые сорта?
— Э-э-э, да вы забегаете вперед, — укоризненно заметил Владимир Дмитриевич. — Это не по правилам, не все сразу. — Оказывается, осматривая растения, он все время держал нить разговора в своих руках.
— Главное — знать генетику признаков, — сказал он, поднимаясь с коленей, — как они передаются по наследству. Когда мы оседлаем этого конька, нам останется только взять барьер. Но не приз! — и засмеялся над собственной шуткой. — До призов еще далеко...
Как работали в прошлом народные селекционеры? Из имеющихся у них растений отбирали лучшие и получали то, к чему стремились. Потом опыты усложнились: из разных сортов стали вылавливать элитные, отборные материалы, объединять их — создавать нечто новое. Подчеркиваю, вся эта селекция проводилась на базе старых сортов. Тех сортов, которые применялись при экстенсивной системе земледелия, когда пашню обрабатывали сохой, сеяли вручную, а урожай убирали серпом...
Но эпоха отбора благополучно окончилась. Отбора стихийного, бессознательного. Старые сорта уже не способны на те урожаи, которых мы ждем от них сегодня, — они попросту выдохлись. К тому же в корне изменилась технология выращивания: на поля пришли мощные машины, минеральные удобрения, появилась классная агрономическая служба. То есть именно теперь наступило то время, когда мы можем дать растениям значительно больше того, что давали раньше. И они должны суметь это взять, вернув нам в страду не 16 центнеров с круга — 100 пудов по-старому, — а втрое-вчетверо больше.
Кобылянский взглянул на меня с острым прищуром и усмехнулся:
— Знаю, знаю, о чем вы сейчас думаете: «Вашими устами да мед пить». Не так ли?.. К великому сожалению, должен признать: полегают нынче ржаные сорта — не везде, но полегают. В особенности те, у которых стебель вымахал за полтора-два метра. И урожайность их падает, и площади сокращаются. — Он жестом пригласил меня к тому месту, где росли зараженные ржавчиной всходы. Короткие и мощные стебли (ЕМ-1 стояло на табличке) тихо шелестели, переговаривались на ветру, словно не подозревая о той участи, которая ожидает их к исходу лета.
— Помните в песне: «Распрямись, рожь высокая...» Давайте-ка разберем эту строчку с точки зрения селекции. Если брать старые сорта, тут все правильно: самая короткая рожь равна самой длинной пшенице — это аксиома. Но нужен ли нам такой верзила, если, как подсказывает практика, он едва держится на ногах, осыпается и во время уборки его приходится буквально подбирать с земли? Конечно же, нет. Значит, какой напрашивается вывод?
— Нужно укоротить стебель...
— Совершенно верно, — обрадовался ответу Владимир Дмитревич и посмотрел на меня как на подающего надежды ученика. — Создание короткостебельных и неполегающих сортов ржи является сегодня генеральным направлением всей мировой селекции.
Но для того, чтобы создать «карлика», надо знать гены короткостебельности. И вот, обладая огромной коллекцией ВИРа — коллекцией уникальной, самой богатой в мире, — я имел возможность искать эти гены в разных гибридах, выявляя хромосомную наследственность. И после длительных поисков нашел ее.
— Но теперь уже вы забегаете вперед, — заметил я Кобылянскому. — Давайте все по порядку...
— По порядку так по порядку, — безоговорочно согласился селекционер. Он раздвинул стебли и вошел в самую гущу ржаного клина. Растения едва достигали его пояса. — То, что вы видите перед собой, — ЕМ-1 (естественный мутант) — и есть результат многократных скрещиваний.
За один сезон я пропустил через свои руки около 20 тысяч растений. Я их изучал от корня до колоса. И вот однажды был счастлив обнаружить в одном гибриде между высоким и средневысоким сортом единственное растение, которое оказалось невероятно коротким: оно имело длину 70 сантиметров. Я высадил его семена здесь, на опытном поле: растения хорошо взошли и закустились. Но выглядели при этом как пигмеи в царстве великанов... 8 это время на делянку пожаловал ученый совет нашего института. Я показал своих «малышей», рассказал их предысторию, но мне единодушно заявили, что это, конечно же, аномалия: дескать, бывают случаи, когда у рослых и здоровых родителей появляются куцые, больные дети. Но меня не смутили эти слова, меня больше всего поразило то, что сами растения были приземистыми, куцыми, а колос у них — длинным и наполненным. Это-то как раз и не соответствовало общепринятым нормам. Большинство генетиков и селекционеров считало, что если растение короткое, то и колос у него должен быть коротким.
— Как вы объясняете это открытие: случайность или научное предвидение?
— Думаю все же, это был случай, — откровенно признался Владимир Дмитриевич. — Или, точнее говоря, запрограммированный случай, который рано или поздно, у меня или у другого, должен был как-то проявиться. Он выпал мне, и я его не упустил... Но если вы думаете, что это и есть ЕМ-1, то глубоко ошибаетесь. До мутанта еще была далеко!
На следующий год я снова высеял семена короткостебельной ржи, скрестив их с нашей «Вяткой» и шведским сортом, и увидел, что среди всходов половина длинных, половина коротких. Раз это свойство проявилось в первом поколении — значит, признак короткостебельности «работает». Я изучил генетику этого признака путем скрещивания короткостебельных растений с длинностебельными и обнаружил один доминантный ген. Затем путем специальных опытов установил четкую закономерность: он, этот ген, способен укоротить соломину почти на 40 процентов...
Но одновременно у меня возникли сомнения: Не может быть, чтобы за все века существования ржи это явление могло проявиться лишь однажды. Стал ворошить «вировскую» коллекцию и нашел аналогичный ген у местной болгарской ржи, но только в другой комбинации. К слову сказать, у этой «болгарки» была незавидная судьба. Ее использовали в своих опытах едва ли не все селекционеры мира и, убедившись в ее слабой зимостойкости, отвергали как непригодную. Но — вот беда! — не знали мои коллеги признаков наследования этой ржи. А надо было ее один раз вырастить, взять от нее этот ген и насытить своим материалом...
В общем, — подвел черту Владимир Дмитриевич, — если отмести частности и годы работы, так получился ЕМ-1. Принципиально новый тип растения, исключающий всякое полегание. Для меня это была та самая печка, от которой «танцуют». Повивальная бабка короткостебельности! На базе ЕМ-1 можно создавать уже районированные сорта ржи...
Полдень наливался зноем. Ветер доносил с поля густые и пряные запахи злаков, волновал многоколенные стебли, лиловые шапки колосьев, и, казалось, это волнение передавалось Кобылянскому. Он расстегнул ворот рубашки, вытер платком лоснящийся лоб.
— По-видимому, гены короткостебельности, которые заложены в мутанте ЕМ-1, — сказал я, — еще недостаточная гарантия, чтобы получать высокие и устойчивые урожаи?
— Конечно же, нет! — горячо откликнулся ученый. — Дело в том, что короткостебельность повлекла за собой проблему иммунитета, то есть устойчивости растений к болезням. Мы получили новый тип растения, но не научили его по-новому жить. Иначе говоря, у него изменились отношения с окружающей средой — с почвой, температурой и влажностью воздуха. И оказалось, что короткостебельные посевы больше подвержены заболеваниям, нежели высокая рожь.
Одну из этих болезней вы уже видели — бурая ржавчина. Другая — пожалуй, не менее опасная — мучнистая роса: она уносит 30-40 процентов урожая. Понемногу дело привело к тому, что производительность колоса у коротких сортов стала падать.
Я понял, что проблема короткостебельности не может быть решена отдельно от проблемы иммунитета. Устойчивых сортов в мире не существует. Следовательно, надо искать признаки устойчивости и гены, несущие эти признаки, в дикорастущих предках.
— Выходит, за долгие тысячелетия природа не очень-то расщедрилась на милости, если за ними приходится возвращаться в Турцию и Закавказье, на родину ржи.
— Ничего не поделаешь, — развел руками Кобылянский. — Возвращение к истокам, к точке отсчета никогда не повредит ученому. К тому же там этих дикарей никто не защищает, и они вынуждены защищаться сами. То есть выживают те растения, которые способны противостоять болезням... Но это было бы слишком просто, — Владимир Дмитриевич улыбнулся, — искать гены устойчивости только в турецких и закавказских сортах, чтобы взять от них дикую живительную силу. Мне пришлось собрать все виды ржи, имеющиеся в мире, и высеять их здесь, в Пушкине. И вот, изучая эту коллекцию, я попутно пришел к неожиданному результату: вместо известных науке 14 видов ржи существует только четыре. Причем это было видно не только внешне, но и Подтверждалось генетически и цитологически, то есть при изучении клеток и хромосом растений. Любопытно, что многие из этих видов почти повторяли ранее открытые. Исследуя эти виды (листья, корневую систему, пыльцу, момент завязывания семян, дифференциацию колоса на полоски и т. д.), определяя их скрещиваемость между собой, а также скрещиваемость культурной ржи с дикой азиаткой, я нашел ген устойчивости против мучнистой росы. Этот ген я перенес в короткостебельную рожь.
— Значит, теперь все проблемы решены! — воскликнул я.
Кобылянский рассмеялся:
— Если они будут решены — тут же возникнут новые, и так до бесконечности. Пути природы неисповедимы... Однако сегодня, — он посерьезнел, как перед докладом, — можно с уверенностью сказать, что универсальный сорт озимой короткостебельной ржи, пригодный для Нечерноземья, в принципе создан. Он называется «Россиянка».
Владимир Дмитриевич развернул скатанный в рулон лист бумаги, на которой латынью были расписаны все сортовые признаки ржи, прошедшие испытание на опытном поле. Он держал этот плакат на вытянутых руках и размышлял вслух:
— Итак, сорт «Россиянка». Допустим, мы планируем ее урожай в 80 центнеров с гектара...
— Не много ли для начала? — усомнился я в названной цифре.
— Совсем немного, — твердо заверил селекционер. — Чтобы сформировать такой урожай, «Россиянка» должна взять максимум полезных признаков. Эти признаки — своего рода запасные части, при сборке которых можно получить высокоурожайный сорт. — Хозяйским оком он оглядел укрытые под холстом посевы, чтобы при случае наглядно продемонстрировать нового крестника ЕМ-1.
— На одном квадратном метре должно расти не менее 400-450 колосьев. Кто нам даст такой показатель? Старые, испытанные сорта «Вятка-2» и «Харьковская-60» — у них плотный, густой стеблестой... Высота растения, способная удержать соломину от полегания. Оптимальный вариант — 80-120 сантиметров. Донорами этой высоты могут быть ЕМ-1 или «Малыш-72», у которых короткий и прочный стебель, способный удержать около килограмма веса, и литой, тяжелый колос... Идем дальше. Какими должны быть листья у растения? Ведь от их формы и положения зависит фотосинтез. А вот какими: лист должен быть средних размеров под острым углом к стеблю и перпендикулярно к солнцу, чтобы хорошо усваивал свет. Эти признаки мы возьмем от шведского сорта «Кунгс» и западногерманского сорта «Кустро»... Теперь самое главное: колос. Колос нам нужен непоникающий и слегка наклоненный. Почему? Чтобы в него не попадала дождевая влага и не выпадали зерна. Этими гарантами обладают наш ЕМ-1 и «Кунгс»... Не менее важная проблема: сколько зерен должно быть в колосе? Около 70-80, потому что каждое дает прибавку в 80-100 килограммов с гектара... Помножив все эти показатели и приведя их к общему знаменателю, мы получим 80 центнеров с гектара. Что и требовалось доказать!..
Выбраться к Кобылянскому еще раз удалось только в октябре, когда от горячей страды уборки урожая остались лишь воспоминания да обрывки пожухлой соломы, которую гонял ветер.
Мы шли краем опытного поля, вдыхая прелые запахи листвы и вывороченных картофельных корневищ. Как-то не верилось, что совсем недавно здесь разливались зеленые хлеба, кружились беззаботные стрекозы и волны горячего воздуха поднимались струящимися столбами. Голая осень привнесла ощущение утраты; мир клеток, хромосом и генов словно распался, оставив взгляду груды перепаханной и забороненной земли, на которой хозяйничали грачи... Однако там, где когда-то стояли саваны изоляторов, уже проклюнулись густые и сочные всходы озимых. Это была «Россиянка» будущего урожая.
— Итак, на чем мы остановились? — напомнил о нашем летнем разговоре Владимир Дмитриевич.
— Ну как же, — я рассчитывал услышать самое главное, — 80 центнеров с гектара...
Кобылянский недовольно хмыкнул и покачал головой.
— Вообще-то я не сторонник сортового ажиотажа. И не в моих правилах афишировать результаты. Но «Россиянка» заслуживает доброго слова... Так вот, — он остановился, разглядывая ростки озимых, — у меня вышло сорок, на участках по сортоиспытанию — 70, а в опытных хозяйствах ГДР этот сорт дал около девяноста.
— Но почему такая разница? — поразился я. — Разные почвы, погодные условия?
— Климат и почвы здесь ни при чем. — Мне показалось, Владимир Дмитриевич произнес это с затаенной гордостью. — Я сею где придется, экспериментировал над посевами в интересах генетики. А они боролись за урожай — и хорошо боролись. Отсюда и разница. — Он заметил разгуливающих среди посевов грачей и запустил в них камнем. — Это говорит о потенциальных возможностях сорта.
— Ну а хозяйства нашего Нечерноземья, — не отставал я, — чем они могут похвастаться?
— Об этом мы узнаем осенью восьмидесятого, — дипломатично улыбнулся Кобылянский. Но по его голосу, по выражению его лица я понял: селекционер верит, что будущие сведения, скупая отчетная цифирь из ближних и дальних мест, помогут ему в возрождении главного русского хлеба. Семена нового сорта, сообщили мне в ВИРе, будут проходить испытания на сортоучастках Сибири, Куйбышевской и Псковской областей, Марийской АССР...
По усыпанной гравием аллее мы шли в Пушкинские лаборатории, где Владимир Дмитриевич обещал мне две пригоршни «Россиянки», чтобы у себя дома я смог испечь в духовке (если, конечно, получится) маленький, румяный, ароматный, с нежной поджаристой корочкой, настоящий житный каравай...




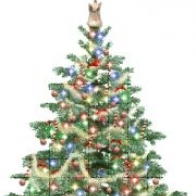



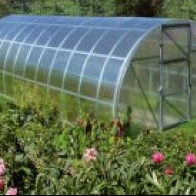


 Противовирусные препараты: за и против
Противовирусные препараты: за и против Добро пожаловать в Армению. Знакомство с Арменией
Добро пожаловать в Армению. Знакомство с Арменией Крыша из сэндвич панелей для индивидуального строительства
Крыша из сэндвич панелей для индивидуального строительства Возможно ли отменить договор купли-продажи квартиры, если он был уже подписан
Возможно ли отменить договор купли-продажи квартиры, если он был уже подписан Как выбрать блеск для губ
Как выбрать блеск для губ Чего боятся мужчины
Чего боятся мужчины Как побороть страх перед неизвестностью
Как побороть страх перед неизвестностью Газон на участке своими руками
Газон на участке своими руками Как правильно стирать шторы
Как правильно стирать шторы Как просто бросить курить
Как просто бросить курить

 - 2499 -
- 2499 -



